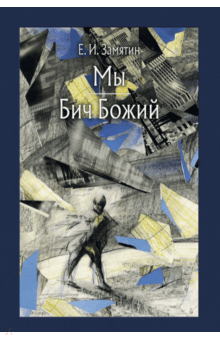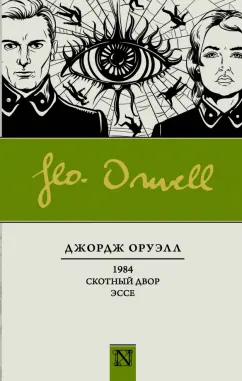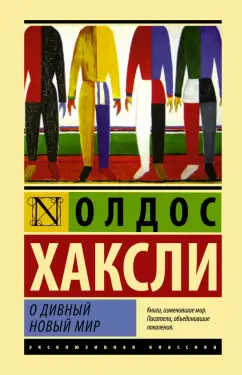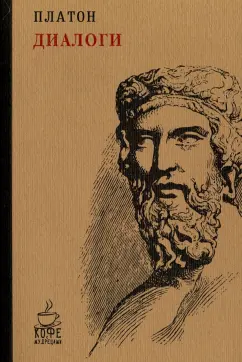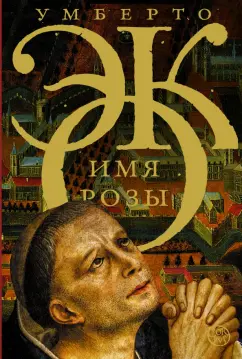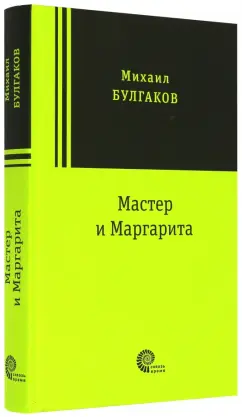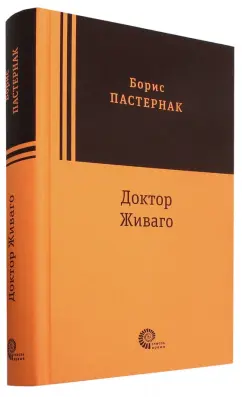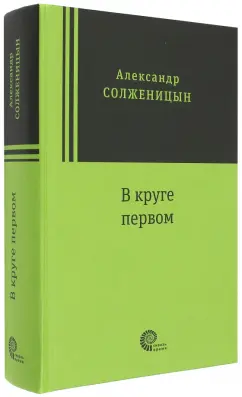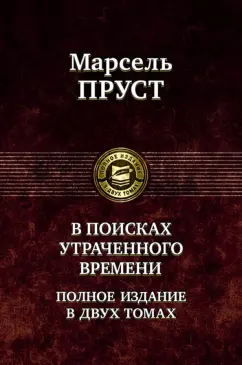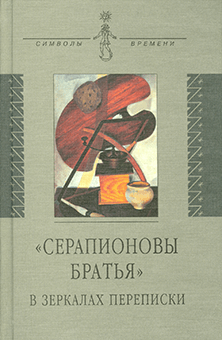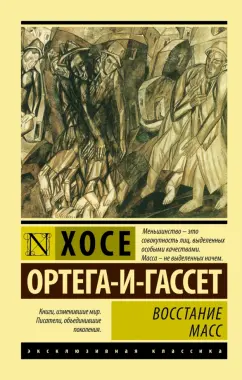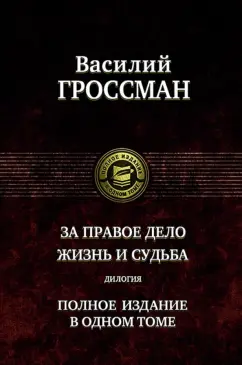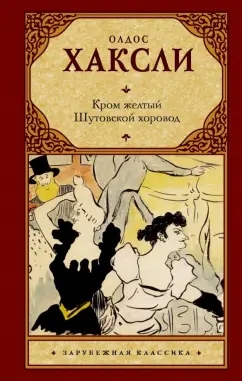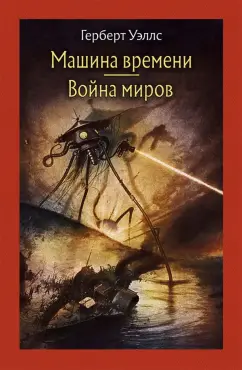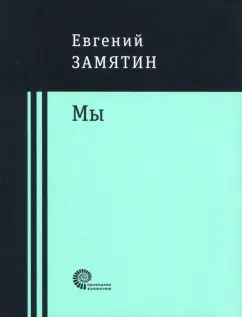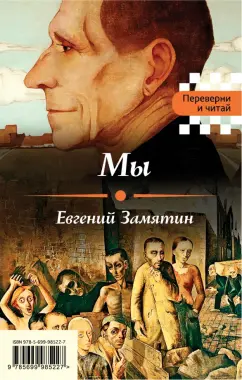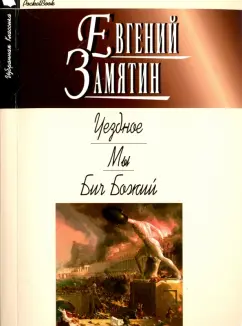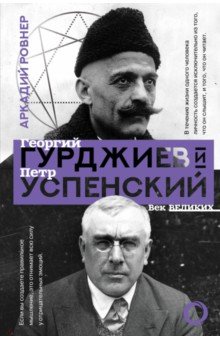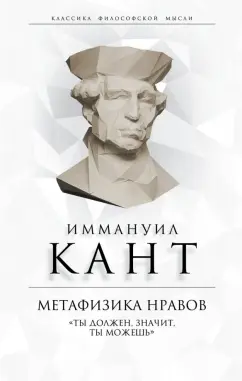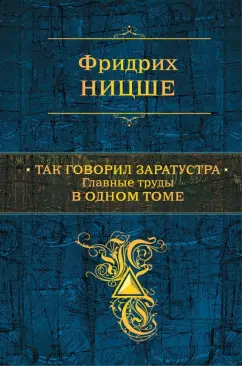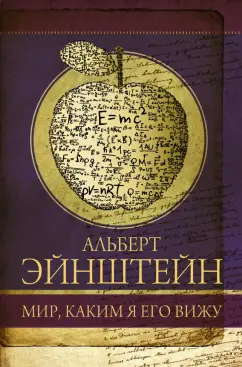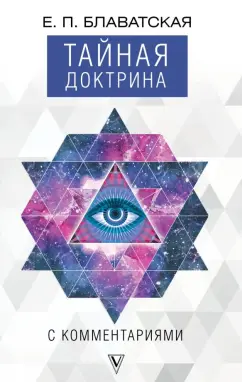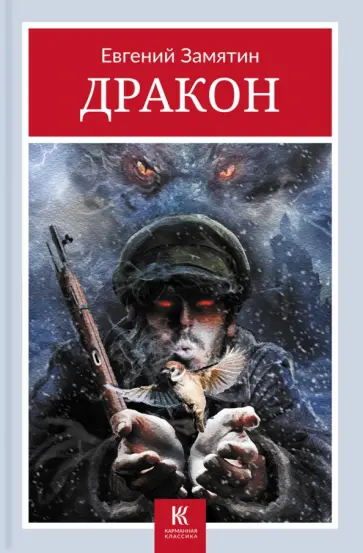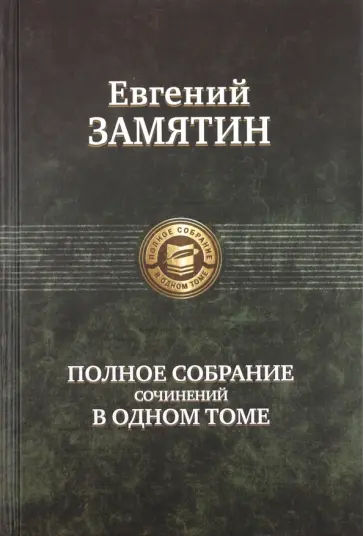Тэги
Авторская рубрика Афанасия Мамедова
делают не исполнительные и благонадежные чиновники, а
безумцы, еретики, отшельники, мечтатели, бунтари,
скептики. А если писатель должен быть благоразумным,
должен быть католически правоверным, должен быть
сегодня — полезным… тогда нет литературы бронзовой, а
есть только бумажная, которую читают сегодня и в
которую заворачивают глиняное мыло…».
Евгений Замятин. «Я боюсь»
В советскую пору на раболепной нашей одной шестой части света запрещались не только неугодные писатели и произведения, но порою даже целые литературные направления и жанры. Под запретом, к примеру, оказалась антиутопия, а, вместе с ней, и ее главный разработчик — один из самых ярких и проницательных русских писателей начала ХХ века Евгений Замятин.
Несмотря на всю значительность и уникальность дарования Замятина, проверенного на ветрах перекрестка двух веков и тысячелетий, знакомы мы с его творчеством до обидного мало. Замятин угодил у нас в какой-то расщеп — возможно, оттого, что сам был полон противоречий. С одной стороны, вполне себе русский человек из религиозной семьи, с другой — еретик и бунтарь. Блестящий инженер-кораблестроитель и выдающийся писатель, драматург, теоретик искусства. Человек, принявший революцию, прозревший ее на годы вперед, и за то наказанный, молящий красного идола только об одном: чтобы отпустил его с женою на Запад. Все это он, Евгений Замятин.
Его отпустили, и после, странным образом, вроде бы не трогали, но и в белоэмигрантских кругах Замятина не особо жаловали. Чего не могли простить? Вероятно, того, что уехал в 1931 году, а не в 1921. Но, может, просто побаивались: а вдруг сталинский агент?! В то время чекисты плели свои сети по всей Европе.
Нынче времена изменились, вот только Замятин остался нечитанным. Стоит заговорить о нем в профессиональных кругах, как слышишь: «Замятин?.. Нет, не мой писатель, поговори-ка лучше с N». На вопрос: отчего же так? — пожатие плечами, сопровождаемое легкой «филологической» ухмылкой. Порою даже кажется, мы Шкловского с Эренбургом знаем лучше, чем Замятина. Да что они! Мы и Шмелева с Осоргиным лучше знаем. Скорее всего, тут дело в «ошибке считывания» кодов, в ином хронотопе… «Сивцев Вражек» Осоргина нам попросту понятнее, чем «Мы», а психология ученого-орнитолога — ближе психологии строителя «Интеграла» Д-503.
Не умаляя достоинств многих отечественных писателей века минувшего, все-таки хочется заметить, что Евгений Иванович Замятин — один из немногих русских писателей, внесших существенный вклад в мировую литературу. И вошел он в нее, прежде всего, как основоположник нового жанра — антиутопии. Нет, жанр этот не был им открыт, мостить дорогу антиутопии начал, наверное, еще Платон своими диалогами «Тимей» и «Критий». Утопическая Атлантида — чем не исходная точка всех антиутопий? Каждому явлению всегда найдется ему противоположное. Замятин просто довел этот жанр до совершенства, он, можно сказать, «сложил и упаковал» его, передав гораздо более известному у нас антиутописту Джорджу Оруэллу. И хоть Оруэлл написал впоследствии: «Первое, что бросается в глаза при чтении „Мы“, — факт, я думаю, до сих пор не замеченный, — что роман Олдоса Хаксли „О дивный новый мир“, видимо, отчасти обязан своим появлением этой книге», я не уверен, что оруэлловский роман «1984», не перекликается романом «Мы».
Однако творчество Замятина романом «Мы» не исчерпывается (как и творчество Хаксли и Оруэлла не ограничивается вышеназванными романами). Оно на редкость разнообразно — Замятин писал повести, рассказы, статьи, пьесы, сценарии… Все это в свое время было высоко оценено выдающимися деятелями искусства дореволюционной России. Такими, к примеру, как Горький, Белый, Ремизов… Почему же сегодня на родине Замятина им интересуются по преимуществу историки литературы, школьные учителя, да седобородые книгоящеры — наследники Хорхе из знаменитого романа «Имя Розы»? Насколько прав Георгий Адамович, еще в 20-е годы писавший в своем очерке о замятинском «Иксе»: «По духу Замятин в современной России скорее одинок. Его там считают „европейцем“ и снобом. До известной степени это верно, в том смысле, что в Замятине совершенно отсутствуют черты „ame slave“…»? А, может быть, прав все-таки Максим Горький, который, в отличие от Адамовича, находил «ame slave» («славянские черты») во всем, что делал Евгений Иванович прежде романа «Мы»? Можно поставить «Мы» в один ряд с главными текстами русской литературы ХХ века? Почему местом своего проживания за рубежом Замятин выбрал Францию, почему не уехал в США, в Голливуд, где им, как сценаристом, интересовались? И, если Замятин такой уж «западник», такой уж рационалист, откуда тогда взялось его недавно открывшееся увлечение мистикой, спиритуализмом, учением Петра Успенского и Александра Богданова? Наконец, кто сегодняшний читатель замятинской прозы?
На эти и другие вопросы мы попросили ответить историка литературы, филолога, профессора факультета филологии Высшей школы экономики и профессора РГГУ Олега Лекманова; историка литературы, филолога, профессора РГГУ Михаила Одесского; кандидата филологических наук Надежду Гурович, культуролога, библиографа, исследователя творчества Е. Замятина Марину Любимову.
«Мы» можно поставить в ряд ключевых для русской литературы ХХ века метароманов
Афанасий Мамедов Нашу беседу хотелось бы начать с определения жанра, который, когда речь заходит о знаменитом романе Евгения Замятина «Мы», вызывает немало споров как у профессионалов, так и у обычных книгочеев. Олег, скажите, пожалуйста, «Мы» — произведение утопическое или антиутопическое, и насколько важно знать точно, к какому подразделению относится этот роман, когда мы его читаем?
Олег Лекманов Если выбирать из предложенной Вами пары определений — антиутопическое, хотя сам Замятин, как известно, называл «Мы» «городской сказкой» (у него там даже баба Яга в одном месте появляется). Мне, впрочем, кажется более интересным и продуктивным попробовать взглянуть на «Мы» не как на антиутопию, а как на роман о попытке стать писателем (тема писательства в «Мы» очень важна, недаром роман имеет форму дневника, то есть — текста, который героем пишется). Он и окружающий мир в определенный момент начинает воспринимать как книгу: «…я еще лихорадочно перелистываю в рядах одно лицо за другим — как страницы». То есть «Мы» можно поставить не в ряд антиутопий, а в ряд ключевых для русской литературы ХХ века метароманов о написании романа, о написании текста («Мастер и Маргарита», «Дар», отчасти «Доктор Живаго» и «В круге первом»). А текстом-маткой для всех таких романов стала эпопея Пруста «В поисках утраченного времени» с ее девизом: «Вселенная подлежит полному переписыванию».
АМ Почему Евгений Замятин не был оценен и воспринят в должной степени у себя на родине? Почему западному читателю и ценителю литературы творчество Евгения Ивановича оказалось ближе? Может быть, он опоздал с «возвращением» на родину? Хотя Владимир Набоков, Гайто Газданов, Борис Поплавский вряд ли появились много раньше него.
ОЛ А почему Вы говорите, что он «не был оценен и воспринят»? У меня, если честно, не складывается такого впечатления. Мои студенты, например, всегда радуются, если на экзамене им достается билет с «Мы», этот роман они дочитывают до конца почти все. Я думаю, что многих современных читателей, и русских и западных, привлекают четкость и внятность замятинской концепции, а также его, как сформулировал когда-то
АМ То, что Оруэлл читал «Мы» Замятина и роман произвел на него неизгладимое впечатление — факт известный. В этой связи вопрос: уместно ли говорить о прямых заимствованиях, перекличках романа Оруэлла «1984» и «Мы» Замятина?
ОЛ Можно, конечно. Ведь одна из важных тем обоих романов: «Счастье и свобода несовместимы» (слова Оруэлла из рецензии на «Мы»). И многие конкретные ходы Оруэлл сделал вслед за Замятиным (например, у того и у другого самостоятельная личность начинает пробуждаться через эрос, через секс).
АМ Можно сказать, что Замятин написал роман о будущем всего человечества, а не только отдельно взятой страны?
ОЛ Безусловно, можно, и в этом нам подмога сам Замятин, который говорил о «Мы» так: «Этот роман — сигнал об опасности, угрожающей человеку, человечеству от гипертрофированной власти машин и власти государства — все равно какого». Другое дело, что в романе Замятин делает один хитрый ход, чтобы внимательный читатель ясно понял — действие «Мы» разворачивается именно на территории бывшей России. В доме, который осматривают герой и героиня, обнаруживается портрет Пушкина (не Толстого, или Достоевского с их мировой известностью, а Пушкина — с его локальной, «внутрироссийской» славой).
АМ Какую роль в творчестве Евгения Замятина сыграл русский символизм петербуржского извода?
ОЛ Как и многие писатели его времени, Замятин начинал с прилежного ученичества у одного из главных русских прозаиков-модернистов — Алексея Ремизова. И до революции он имел репутацию крепкого писателя второго ряда. Как это ни странно, октябрь 1917 года, который Замятин решительно не принял, «перевел» его из второго ряда в первый. Замятин нашел свой стиль, свою тему. И в «Мы» пользовался символистским стилем уже только тогда, когда ему было нужно, как раз для того, чтобы показать — его герой стал писателем. Когда герой пишет: «Раньше — все вокруг солнца; теперь я знал, все вокруг меня — медленно, блаженно, с зажмуренными глазами», многие из нас, конечно же, вспоминают Федора Сологуба с его солипсизмом, но это уже не имитация сологубовского стиля, не подражание ему, а использование стиля Сологуба в своих собственных целях.
АМ Как вам кажется, почему роман «Мы» так не понравился Максиму Горькому?
ОЛ Горький, как замечательно показал еще Ходасевич, был страстным поборником утешительной, спасительной лжи (хотя исповедание марксизма и требовало от него любви к правде). А Замятин исповедовал культ правды (причем, жесткой, неприукрашенной правды) почти как религию, в том числе, и в романе «Мы». Чего ж тогда удивляться, что роман Горькому не слишком понравился?
АМ Сегодня кто-нибудь из наших писателей наследует Евгению Замятину или же его проза слишком сложна, чтобы идти за ней в кильватере?
ОЛ Мне не кажется, что проза Замятина как автора «Мы» так уж сложна, скорее, я бы сказал, что она дистиллированная, рациональная. И мне это, кстати, очень нравится. Напрямую у Замятина после революции учились в литературной студии Зощенко, Каверин, Лев Лунц и другие «Серапионовы братья», но, увы, никто из них по пути, проторенному в русской прозе Замятиным, не пошел. А вот в аналитической прозе Лидии Яковлевны Гинзбург я некоторые параллели с Замятиным нахожу.
«Мы» — это современность, изложенная в форме будущего без попыток его предугадать
Афанасий Мамедов Оказали ли определенное влияние на творчество Евгения Замятина русские символисты, в частности, те же Андрей Белый, Алексей Ремизов, Федор Сологуб?
Михаил Одесский Безусловно, Евгению Ивановичу Замятину была близка экспериментальная проза Серебряного века и без названных вами имен серьезного разговора о творчестве Замятина не получится. Упомянуть их следовало бы еще и потому, что из-за преобладающей тематики творчество Замятина можно отнести сгоряча к народническому реализму, а это было бы большим заблуждением.
Наиболее очевидна связь Евгения Замятина с Андреем Белым. Замятин обязан ему и модернистской оптикой, и многими стилистическими приемами, и в какой-то степени «гротескным» и «магическим» мировоззрением. Связывали Замятина с Белым и личные, и общественные отношения. Во время Февральской революции, Замятин и Белый примыкали к известному критику, автору нашумевших «пассионарных» статей Иванову-Разумнику, который был уверен в том, что русская революция станет великой революцией духа. Иванов-Разумник полагал, что русский человек по природе своей «скиф» и со временем будет диктовать «скифские» законы одряхлевшему и прогнившему Западу. Объединение Иванова-Разумника, о котором идет речь, так и называлась — «Скифы». Ими было выпущено два сборника — в 1917 году и в 1918 году. Второй опубликован под редакцией Белого, Иванова-Разумника и Мстиславского. (Обложку оформил Петров-Водкин.)
Думаю, с уверенностью можно говорить и о влиянии Ремизова (тоже «скифа») на творчество Замятина. Вместе они участвовали в смеховом проекте — печаталась в юмористической рубрике серьезного журнала, в котором публиковалась странная, на грани приличного юмористика.
Что касается Сологуба, не могу сказать с полной уверенностью, что он оказал на Замятина такое же сильное влияние, как Белый с Ремизовым. Но, безусловно, определенный интерес Евгения Замятина к затхлой провинциальной жизни мог быть связан и с творчеством Сологуба.
АМ Уместно ли говорить, что «Мы» Замятина — роман-антиутопия о «цифровом» будущем человечества, а не только отдельно взятой страны с вампиром Сталиным во главе?
МО О «вампире Сталине» давайте пока что забудем. Роман «Мы» был написан Замятиным в начале 20-х годов. Так что это — тот редкий случай, когда Сталин еще не при чем. Заменим его на Ленина. Это будет верно не только с хронологической точки зрения. Дмитрий Мережковский вампиром, упырем называл именно Владимира Ильича.
Если сравнивать Замятина с Жюлем Верном или Гербертом Уэллсом, к которому Замятин испытывал больший интерес, то едва ли можно вообще считать, что Замятин сознательно пытался предугадать какие-то особенности будущего. Хотя, казалось бы, к этому был предрасположен: он же не только ведь инженер человеческих душ, еще и инженер-кораблестроитель. Тем не менее, я никогда не считал «Мы» научной фантастикой. Мне кажется, Замятина интересовали духовные особенности современности, которые он пытался оформить как пугающее будущее. Это современность, изложенная в форме будущего, без попыток его предугадать.
Я понимаю, что «Мы» — классическая антиутопия, но мне всегда казалось, что это скорее притча о современном. И обратите внимание: Замятин к научной фантастике, к антиутопии больше никогда не обращался.
Второй немаловажный вопрос: как воспринимался советской властью роман «Мы», почему у нее появилось желание обкорнать его, адаптировать, и насколько это навязчивое желание было справедливым, разумеется, с позиции власти. На мой взгляд, желание это было вполне справедливым. Другое дело, что советская власть не заметила очевидного — Замятин писал не только о ней. Те особенности, которые интересовали Замятина в этом романе, отчетливо проявлялись не только в юном советском государстве, этими особенностями была отмечена вся современная западная цивилизация. По крайней мере, Замятин так считал, и с его стороны это не было пропагандистским ходом — до романа «Мы» схожие идеи были изложены в его повести «Островитяне», в основе которой лежал английский опыт. Между прочим, опыт передовой западной цивилизации.
Не стоит также в этой связи забывать, что Замятин был социалистом. Его не любила советская власть, главным образом, за то, что он был для них в значительно большей степени свой, чем те же белые. То есть Замятин для советской власти — взбунтовавшийся свой. Соответственно, и он сам воспринимал себя как бунтаря и еретика.
АМ … которого настораживали некоторые особенности современной цивилизации.
МО Конечно, и, говоря в социологическом ключе, возможно описать такую модель, при которой современный капитализм и тот тоталитарный строй, которой застал Замятин в начале 1920-х, были бы вариантами одного и того же. В некотором смысле Замятин видел именно это. Видел, но не хотел становиться врагом советской власти. И если в начале 20-х он действительно достаточно жестко ей противостоял, то, оказавшись на Западе, старался не ссориться, не солидаризоваться с белыми, заручился поддержкой Горького. Кстати, он был автором сценария к знаменитому фильму Жана Ренуара «На дне», и Горький разрешил писать сценарий к фильму именно Замятину.
АМ Не выглядит ли это странно после реакции Горького на «Мы»?
МО Ничего странного в том нет. С Горьким у Замятина сложились прекрасные отношения. Хотел бы еще раз подчеркнуть, что Замятин не позиционировал себя как враг советов. Он был значительно больше врагом советской власти на территории СССР, чем тогда, когда уехал.
АМ Позиция довольно своеобразная.
МО Другое дело, что как художник он поставил настолько страшный диагноз тоталитарному строю, что, может быть, какой-нибудь белогвардеец для советской власти был бы и милей.
АМ Коль мы уже заговорили об отношениях Замятина с Горьким. Вот что Горький пишет, к примеру, Груздеву из своего далекого Сорренто в 1929 году, для начала пройдясь по «Серапионам»: «Замятин слишком умен для художника и напрасно позволяет разуму увлекать талант свой к сатире. „Мы“ — отчаянно плохо, совершенно не оплодотворенная вещь. Гнев ее холоден и сух, это — гнев старой девы». И это при том, что все, написанное Замятиным до того, начиная с «Уездной», Горький всячески восхвалял.
МО Примитивный ответ на этот вопрос дать несложно, гадать — тоже не хочется. Конечно, можно себе представить, что мог написать Горький об «Уездном» — синтез реалистической тематики и модернистских приемов. Думаю, что самое письмо вещи, ее язык не должен был отталкивать Горького, хотя в поклонниках языковых экспериментов Белого Горький не числился, но у Замятина в «Уездном» они приемлемые. Что же до романа «Мы», то представить себе Горького, пишущего антиутопию, я не могу. Вместе с тем, Алексей Максимович не был человеком примитивным: если он сам не писал антиутопий, это вовсе не означает, что они ему не нравились. В общем, почему Горький ругал «Мы», объяснить с уверенностью не могу, но к Замятину он относился благожелательно до последнего.
АМ Судьба не могла их не свести Замятина и с Пильняком, у них было много общего. Случайно ли вышло так, что именно эти два писателя, «два капитана», опубликовавшие свои произведения на Западе, попали «под раздачу», ведь за рубежом об ту пору публиковались многие советские писатели?
МО Не уверен, что Замятина с Пильняком следует как-то особо сближать: как люди они разные, по этапам творческого пути найти что-то общее тоже не получится. Имя Замятина было известно в России еще до революции, когда такого писателя, как Пильняк, еще не существовало. Замятина до революции дважды успели посадить, правда, во второй раз быстро выпустили и отправили в Англию присматривать за производством ледоколов для России.
Если Замятина можно рассматривать в контексте стилистических исканий Серебряного века, то Пильняк — писатель уже другого поколения, его можно рассматривать как в перспективе Серебреного века, так и в перспективе самого Замятина.
Думаю, попали они «под раздачу» не потому, что были близки, и не только потому, что публиковались на Западе. В то время, как вы справедливо заметили, в этом еще не было ничего предосудительного, многие там печатались. И дело даже не в том резонансе, который вызвали их произведения. Вероятнее всего, здесь сыграл определенную роль их статус в советской литературе — Пильняк в то время возглавлял Всероссийский Союз писателей, а Замятин руководил писательской организацией в Ленинграде. Оба были важными фигурами для беспартийных советских писателей. На таких фигурах, как они, власти надо было показать, чего она больше не потерпит.
АМ Есть ли какое-то документальное подтверждение того, что Сталин читал роман «Мы» и лично курировал кампанию против Замятина?
МО Я об этом ничего не слышал и не видел никаких подтверждающих документов, но это вовсе не означает, что их нет, и что этого не могло быть. Сталин, так же как и Ленин, прекрасно понимал, кто такой Замятин, в силу его партийного прошлого. Вы же знаете, что Замятина чуть не выслали на «философском пароходе».
АМ Почему тогда Пильняк был осужден и расстрелян, а Замятину все-таки позволили уехать? И просто ли так позволили? Может, сделали предложение, от которого он не смог отказаться?
МО Здесь нужно непременно отметить, что писатель Евгений Замятин представлялся советской власти фигурой куда более опасной, чем Борис Пильняк. Пильняк был более управляемым писателем, хотя иногда и более дерзким. Он то поддерживал Троцкого, то переставал его поддерживать, написал «Повесть о непогашенной луне», а потом начал каяться. Советская власть с Пильняком играла, но он оставался внутри системы. Замятин же, при всем нежелании ссориться с советской властью, был ей чужой. И есть некая ирония свыше в том, как сегодня выглядит различие в их судьбах: одного наказали Парижем, а другого — расстрелом. В истории подобного рода вещи случаются.
Нельзя забывать и то, что Замятина отпустили в Париж не в 1937 году, а в ситуации несколько отличной, когда сталинский террор еще не набрал предельных оборотов. И получилось так, что Пильняк, как человек более склонный к компромиссу, пытался разрулить ситуацию покаянием, в результате чего его оставили здесь и… расстреляли, а нераскаявшегося Замятина отправили в эмиграцию. Да, жилось ему там нелегко, но все-таки умер он своей смертью.
АМ Можно сказать, что Замятин не оценен в должной мере ни тогда, ни сегодня, ни современниками, ни потомками?
МО Замятин при жизни все же был отмечен. Не был оценен его роман «Мы», это да. В России и, извините, по «объективным причинам». Но многие советские писатели по тем же «объективным причинам» не были оценены. Можем мы сказать сегодня, что Василий Гроссман, главный роман которого не был напечатан в СССР, был оценен в должной степени? За какие произведения, советские?..
У Замятина другая история. Замятин — вовсе не какой-то аутсайдер, у которого после смерти обнаружился роман, и к нему пришла посмертная слава. Просто форма, специфика рецепции, качество его популярности в наше время стали другими. Сейчас Замятин, прежде всего, автор романа-антиутопии «Мы», по объективным причинам не прозвучавшего на родине в свое время. Кстати, «Мы» не был совершенно запрещенным романом, хотя и существовал в специфической форме. Например, известный в 1920-х критик Александр Воронский его печатно упоминал. То есть это случай не безвестности, ставшей известностью, а вначале — одной известности, а потом — другой.
АМ Почему тогда Оруэлла и Хаксли знает весь мир, а писателя, без которого не было бы их главных книг, вспоминают, когда приходит время его юбилея?
МО Почему на Западе, а не у нас? Знаете, великий испанский философ Ортега-и-Гассет возмущался, что его называют последователем Хайдеггера, хотя те же самые идеи он высказывал раньше Хайдеггера, правда, по-испански. Когда русские писатели перестанут несправедливо проигрывать западным писателям в языковом, «переводческом» соревновании, наверное, можно будет задаться вашим вопросом. Однако, если уж совсем честно (интересно, что сказал бы на этот счет мой друг, специалист по Замятину Саша Голушкин, к сожалению, ныне покойный), я считаю роман Джорджа Оруэлла «1984» более сильной антиутопией, чем «Мы» Замятина.
Замятин проигрывает Оруэллу именно в силу того, что последний написал роман-антиутопию, направленную против тоталитаризма, а у Замятина был иной замысел. Оруэлл иначе играл и с языковыми возможностями. Его не интересовали математические конструкции, энтропия и все прочее. Он просто хотел поставить диагноз страшной социальной опасности, и у него это получилось лучше. Продолжая разговор о классических антиутопиях, роман Хаксли «О этот дивный новый мир» я, напротив, считаю слабее «Мы», и, возможно, продуктивнее помещать его не в ряд антиутопий других писателей, а в ряд других романов самого Хаксли.
АМ У Хаксли, как минимум, есть еще три не менее известных романа — «Шутовской хоровод», «Контрапункт» и «Остров»…
МО Да, но меня не оставляет ощущение, что популярность Хаксли начала несколько спадать. Мне кажется, что он уже не так влияет на умы, как это было лет двадцать назад.
АМ В лекции «О языке» (1920−1921) Евгений Замятин утверждал, что язык прозы должен быть «языком изображаемой среды и эпохи». Насколько это удалось ему самому в романе «Мы», описывающем фантастическую среду и еще не наступившую эпоху?
МО Благодарен вам за то, что вспомнили о Замятине как о критике, историке литературы, теоретике искусства. Его литературоведческая и критическая проза представляет интерес не меньший, чем художественная. Неслучайно Замятин был наставником «Серапионов», он владел мастерством письма в совершенстве. Но вернемся к вашему вопросу. Как я говорил, Замятин и Оруэлл — а сейчас уже будет уместно их сравнить — пошли разными путями. Замятин прекрасно понимал, что нельзя писать о будущем языком «Уездного». И он, во-первых, придумал новые реалии, а эти новые реалии должны были именоваться иначе, нежели в замятинской Советской России; во-вторых, он активно использовал научно-математическую лексику, которая в данном случае стала замятинской эмблемой научной доминанты эволюции человечества.
АМ Когда мы сравнивает романы-антиутопии трех писателей — Замятина, Оруэлла и Хаксли — должны мы брать в расчет, что в английской литературе традиция игры с языком более развита, чем в русской?
МО Конечно, неслучайно в английской литературе явился Толкин. Мне кажется, языковая игра — это еще один пункт, по которому Оруэлл, может быть, в силу английской традиции, опережает Замятина. Языковые эксперименты Замятина лежат не столько в плоскости собственно языковой, сколько философской и историософской. И, честно говоря, с литературной точки зрения стратегия Замятина чуть менее интересна, чем стратегия Оруэлла. Зато эксперименты Замятина эффектно смотрятся в контексте русской философии (Флоренский, Белый).
Замятин отличный учитель будущих читателей
Афанасий Мамедов С 1930-х по самые 1990-е Замятин был практически изгнан из нашей литературы. Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что его возвращение состоялось?
Надежда Гурович Сегодня, как мне представляется, Замятин прочно вошел в круг чтения самых разных людей. Несмотря на сложность языка писателя и самой образной системы в его произведениях, он становится все более популярен, правда, в основном благодаря его роману «Мы». Это одна из первых антиутопий в литературе, поэтому сегодня, когда литература во многом возвращается к социальным вопросам, этот роман снова становится очень актуальным.
АМ Кто, на ваш взгляд, составляет сегодня основу замятинской читательской аудитории?
НГ Примечательно, что «Мы» входит именно в круг подросткового чтения. Жестко структурированная действительность, как ни странно, оказывается понятна и интересна читателю 2000-х годов рождения. В электронных тегах произведения Замятина часто позиционируется как фантастика, однако по личному опыту общения с нынешним юным читателем я знаю, что в этой среде «Мы» воспринимается совсем иначе.
Я бы сказала, что Замятин поражает читателя своей строгостью и безапелляционностью в построении сюжета. При очень сильном психологизме, в разрешении ситуации в романе нет никакой неоднозначности, что делает атмосферу его прозы еще более трагической, чем можно было бы ожидать.
АМ А наблюдается ли интерес к замятинским произведениям малых форм?
НГ Малые эпические формы у Замятина, не просты даже для первичного постижения, однако сборники рассказов автора «Мы» пользуются популярностью. Своеобразное авторское видение дореволюционной эпохи, отраженной в «Уездном», отзывается для современного читателя ощущением мертвенности, выморочности всего окружающего уже в сегодняшнем мире.
Герой «Уездного» — Анфим Барыба, щелкающий камни, изъясняющийся сам с собой обрывками фраз, становится образом, определяющим по Замятину действительность. Может быть, только тогдашнюю, но сознание Анфима, точнее отдельные элементы звериного, первобытного, в сочетании с человеческими рефлексами, точно отражают и что-то важное из сегодняшней жизни.
Вообще малая форма оказывается очень показательной для литературы постреволюционного времени. Она не только демонстрирует невозможность построения длинного развернутого повествования в эту эпоху — толстые романы, апеллирующие к высшим человеческим достоинствам и потребностям, остались в ХIХ веке — но и показывает поразительный разлом человеческого сознания. И очень важно показать это людям, живущим через сто лет после революции.
АМ Тогда с какими произведениями его современников перекликается малая проза Замятина? Возможны ли, скажем, параллели Замятин и Бабель или Замятин и Пильняк?
НГ Замятин уникален еще и тем, что в его текстах как будто бы сходится ряд прозаических и поэтических особенностей, свойственных разным текстам эпохи. В этом смысле очень показательно, как перекликаются сюжеты двух рассказов: знаменитого бабелевского «Письма» из «Конармии» и «Дракона» Замятина. В обоих случаях главные герои рассказов мальчики — подростки, чье сознание оказывается полностью под влиянием революционной пропаганды. Сюжеты связаны только с изображением того, как мыслят эти герои, и обладают предельным лаконизмом. Никаких избыточных авторских комментариев — образы созданы так, чтобы читателю передавалось ощущение эпохи, в которой смыты все границы, и исказилось представление о норме в человеческих отношениях.
АМ Хочу спросить вас не только как филолога и литературоведа, но еще и как преподавателя, скажите, пожалуйста, входят ли сегодня произведения Замятина в школьную программу?
НГ Включение Замятина в школьную программу, говоря учительским языком, — опционально. Формально «Мы» подлежит обзорному изучению в одиннадцатом классе. Но есть возможность и, я бы сказала, даже необходимость изучать его раньше. По моему опыту, при заинтересованности ребят это возможно делать даже и в средней школе, в седьмом-восьмом классе. Сюжет «Мы» неизбежно воспринимается подростками на фоне антиутопической традиции, так или иначе известной им хотя бы из элементарной фантастики, которой этот элемент особенно присущ. Несколько лет назад в подростковой среде, например, был популярен роман Лоисы Лоури «Дающий», являющийся, на мой взгляд, набором довольно вторичных вариантов известных антиутопических сюжетов. Однако, именно такая «периферийная» литература может помочь найти путь к классическим и более сложным текстам.
АМ И современные подростки могут воспринять роман «Мы» во всей полноте его смыслов?
НГ Конечно, школьники средних классов не осваивают всех смысловых уровней романа «Мы», но, возможно, для первого знакомства с текстом в самом начале периода взросления этого и не требуется. Очень занимательным для них оказывается то, что мир будущего, изображенный Замятиным почти столетие назад, не стал для нас сегодня архаичным.
Условно говоря, если в седьмом классе ученика занимает, прежде всего, сюжет и ответ на вопрос: «Что же произойдет с главным героем?», то при повторном обращении к этому тексту уже в старшей школе ощущения совсем другие: борьба человека с системой, его положение в ней; соотношение личного и общественного очень волнует всех на переходе из детской жизни во взрослую.
Кроме того, жанровая принадлежность «Мы» к антиутопии сближает его с целым рядом не совсем детских и даже юношеских произведений, очень часто оказывающихся в кругу детского чтения. Это все те же «1984» Джорджа Оруэлла и «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли.
И все-таки хотя «Мы» представляется более сложным для постижения текстом, чем два других известных романа, исторически последовавших за ним. Зато при их соотнесении возникает диалог идей. Конечно, юного читателя не может не поражать, что все эти авторы в своих романах фактически предвосхищают и концепцию общества потребления, и абсолютный тоталитаризм, а потому тексты захватывают.
АМ Как воспринимают Замятина современные дети: он для них советский писатель или белоэмигрантский? Или они уже понимают, что мир — не черно-белая картинка?
НГ Для современного школьника досоветский, равно как и советский периоды развития литературы часто далеки и непонятны. Но в том и заключается особое свойство «Мы», что по самому тексту романа читателю довольно сложно определить, когда он был написан. Во всяком случае, отделить 1920-е от 1950-х без специальной подготовки точно крайне сложно, а потому роман действительно воспринимается вне времени. Мне кажется, в этом есть своего рода признак по-настоящему большой литературы: она отзывается эмоционально даже без знания контекста возникновения произведения.
АМ Как орнаментальное, сказовое замятинское письмо воспринимается детьми, не сложно ли им читать?
НГ Приведу один пример. Настоящим открытием для детей с большим культурным бэкграундом, чем предполагает базовая школьная программа, становится рассказ Замятина «Пещера». Он уникален не только самим сюжетом, показывающим, как ничтожная кража в условиях новой жизни обращается в невероятную трагедию, но и, конечно, стилем. Рассказ демонстрирует переходы от точки зрения повествователя к внутренней речи героя и обратно в рамках одного высказывания. В этом отношении, кстати, прекрасно актуализируется опыт чтения Достоевского. Получается, как у Бориса Слуцкого:
Самые образованные люди в стране
Девятиклассники и десятиклассники.
Ими только что прочитаны классики
И еще не забыты вполне.
АМ В чем вам видятся стилистические особенности прозы Замятина, в чем заключается ее уникальность?
НГ Часто психология героя передана у Замятина не через внутренние монологи, как у классика ХIХ века, а через уникальный для прозы способ — через развернутые метафоры. То, что кажется новаторством в лирике и ранних поэмах Маяковского, оказывается уже вполне органичным приемом для прозы. И в таком контексте отлично воспринимается молодым поколением.
Да, чтобы читать Замятина требуется определенный культурный уровень не только от школьника, но тем приятнее проникать в глубины замятинского текста. Нужно и уметь представить себе часть изображенного визуально, и, в то же время, уметь быстро переключаться с одной позиции на другую, и достраивать в изображении события то, что не было проговорено. Но ведь современному сознанию это очень свойственно.
В повседневной жизни я часто сталкиваюсь с текстами ребят, где и в устной, и в письменной речи многое остается «за кадром»: подразумевается, что смысл достраивается ассоциативно. И не всегда это происходит от неспособности выразить идею до конца. Иногда это и есть сам принцип писания, когда понять должен только адресат. В этом отношении орнаментальное, сказовое письмо иногда оказывается им даже более понятным, чем линейное повествование от третьего лица. В известном смысле, Замятин отличный учитель будущих читателей.
Значительное художественное произведение всегда дает разные, подчас полярные возможности его прочтения
Афанасий Мамедов Существует мнение, в том числе, к примеру, Ивана Толстого, что главное детище Замятина на самом деле запрещено не было, более того, оно имело достаточно широкое хождение в кругах творческой интеллигенции двух столиц. Какой точки зрения придерживаетесь вы? Был ли роман «Мы» официально запрещен «правящими архангелами»?
Марина Любимова В чем-то прав Иван Толстой. Действительно, роман официально не был запрещен. Более того, 15 октября 1921 года на заседании Петроградского отделения Госиздата он был разрешен для издательского кооператива «Эпоха». Этот документ в 2009 году в петербургском архиве обнаружила московский литературовед Мария Котова. Какой текст рассматривался на этом заседании, мы не знаем, автор продолжал работать над романом и в первой половине 1922 года. Может быть, именно поэтому Замятин не воспользовался полученным разрешением позднее, в 1922—1924 гг., когда «продвигал» свое произведение в других издательствах. Все попытки были безуспешными. «Допечатную историю» романа (в течение 1921−1924 гг.) исследовал биограф писателя Александр Галушкин. И вполне справедливо считал, что обсуждение романа в ленинградском Гублите в мае 1924 года, когда цензоры объявили его «пародией на коммунизм, на коллективизм», «государственной опасностью», стало его официальным запрещением. Больше автор не предпринимал попыток напечатать его в советской печати и стал активно «продвигать» на Запад — в Соединенные Штаты, Чехословакию, во Францию.
АМ Если роман «Мы» действительно ходил по рукам, получается, что «Мы» — самиздат того времени, когда еще не было «Эрики» с ее четырьмя копиями?
МЛ Да, получается, что «самиздат», но до мая 1924 года все-таки не запрещенный.
АМ Вы писали и говорили, что подготовительных материалов к роману «Мы» пока что не обнаружено. Означает ли это, что тексты Замятина хранятся там же, где и тексты многих его современников — Бабеля, Пильняка
МЛ На неоднократные запросы Александра Галушкина и руководства Российской национальной библиотеки в соответствующие инстанции приходил один и тот же ответ: материалов Замятина в «закрытых архивах» нет. Вполне вероятно, что, когда обнаружатся подготовительные материалы к роману, мои гипотезы и комментарии к «Мы» могут оказаться ошибочными. И я к этому готова. Главное — все-таки восстановить замысел автора во всей его полноте. Что касается споров вокруг романа, его смысла, жанра, заимствованных источников и идей, то значительное художественное произведение всегда дает разные, подчас полярные возможности его прочтения. Все зависит от читающего. А роман «с открытым концом», каким я считаю «Мы», дает читателю богатые возможности.
АМ У Ивана Толстого, которого мы с вами уже упоминали, есть предположение, под какой «залог», на каких условиях могли отпустить Евгения Замятина на год «погулять» по Европе. Аргументация Толстого проста и достаточно убедительна: во-первых, время было такое, что иначе туда — за стену — уже никого не отпускали; во-вторых, сам Замятин в эмиграции вел себя таким образом, что о нем можно было судить, как об «агенте влияния». Знаю, что у Александра Юрьевича Галушкина был иной взгляд на этот счет. Чья точка зрения вам ближе, с чьей версией вы готовы согласиться?
МЛ Я скорее соглашусь с Александром Галушкиным. Напомню, что Замятин уже в 1925 году сознавал, что его прозу (и в том числе роман) в Советском Союзе печатать не будут. В автобиографии 1928 года для Собрания сочинений он охарактеризовал это время так: «измена литературе, театр…» Его прозу не печатали, а пьесы и сценарии для кино давали заработок. Но когда и театры стали отказываться от пьес, ему пришлось снова вернуться к преподавательской работе. С 1930 года он стал заведующим кафедрой иностранных языков в Ленинградском кораблестроительном институте и даже вместе с коллегами написал учебник «Грамматика немецкого языка для кораблестроителей» (вышла в 1932 без упоминания его имени). После запрещения уже дошедшего до генеральной репетиции спектакля «Атилла» в Большом драматическом театре в Ленинграде и в разгар развернувшейся литературно-критической компании в связи с «делом Пильняка и Замятина», превратившейся в газетную травлю, Замятин решил уехать. В сентябре 1929 года он обратился с письмом к Председателю Совета народных комиссаров Алексею Ивановичу Рыкову и в нем прямо указал, что его «присутствие в Советской России явно излишне» и что в Нью-Йорке готовится постановка его пьесы «Блоха», на нее заключен договор, и просил разрешить ему с женой временно выехать за границу. Однако паспорта не получил. И только в 1931 году после письменного обращения к Сталину его «выпустили». За ним оставалось место в Кораблестроительном институте и квартира на улице Жуковского, где жила домработница, которая стала за многие годы членом семьи. В письмах Замятина к другу Константину Федину есть проблески надежды, что на родине все же изменится отношение к настоящим писателям, а значит, и к нему. В 1934 году он даже подал заявление о вступлении во вновь образованный Союз писателей СССР, и на нем стоит положительная резолюция Иосифа Сталина. Но уже в октябре 1933 года стало ясно, что Замятин «затягивает с возвращением», его уволили из института «как не явившегося вовремя из отпуска на работу» и возникли проблемы с «продлением брони на квартиру». Не знаю, поступали ли таким образом с «агентами влияния».
АМ Когда я услышал в вашем докладе на форуме, посвященном 135-летию Евгения Замятина, что он интересовался учением Петра Демьяновича Успенского о новой модели вселенной — а значит, и о четвертом пути/измерении Георгия Ивановича Гурджиева, я многое для себя понял. «Мы» всегда казался мне романом магическим, мистериальным, на мой взгляд, прочитавший его, в какой-то степени, ставится посвященным. Скажите, пожалуйста, а насколько серьезно Евгений Иванович увлекался мистическими учениями, красным оккультизмом в лице того же Александра Богданова и другими «таинственными школами», которых в начале ХХ века хватало в России?
МЛ Известно, что Замятин интересовался философской, богословской, мистической и оккультной литературой. В анкете на вопросы для сборника «Как мы пишем» (1930) Замятин даже иронично использовал одно из центральных понятий в оккультизме — «астральное клише». У Замятина был собственный мистический опыт; еще в начале 1910-х годов он с друзьями посещал спиритические сеансы, интересовался сеансами известного медиума Яна Гузика.
Весной 1916 года в письме к жене Людмиле Николаевне Усовой (Замятиной), отправленном из Ньюкасла, он просил прислать из Петрограда книгу Петра Успенского «Разговоры с дьяволом. Оккультные рассказы». Мне удалось найти документальное подтверждение, что Замятин был знаком с другой работой Успенского — «Tertium Organum». И разобраться в этой книге и личности автора мне помогла работа Аркадия Борисовича Ровнера «Гурджиев и Успенский» (2-е, переработанное издание вышло в Москве в 2006 году).
Это первое систематическое исследование на русском языке жизни и творчества Петра Демьяновича Успенского и Георгия Ивановича Гурджиева — основателей одного из оригинальных духовных течений XX столетия — «четвертого пути»; оно изменило мое представление о том, кто в этом дуэте был главной фигурой. Отвечая на вопрос о происхождении названия книги «Tertium Organum» (оно означало «третий канон мысли»), Успенский объяснил, что хотел этим названием продемонстрировать: «более глубокое и обширное понимание возможностей универсальной логики существовало еще задолго до тех узких систем, которые даны нам Аристотелем и Бэконом». Успенский пытался решить вопросы, волновавшие его современников: познаваемость реальности, психофизический параллелизм, применимость математических методов к различным областям знания. Он обращается к наиболее обсуждаемым теориям и идеям: теории пространства и времени Иммануила Канта; идее вечного возвращения Фридриха Ницше; теории пространственно-временного континуума Альберта Эйнштейна и Германа Минковского; идее Елены Блаватской о возрождении утраченной эзотерической традиции; буддийской концепции «линги шариры»; концепции сверхчеловека и эзотерического христианства.
АМ В это связи насколько сегодня изучено «мистическое дно» романа «Мы»?
МЛ Успенский постоянно отсылает читателя к библейским текстам, к произведениям философов, богословов, математиков, физиков, поэтов и прозаиков. Используя открытия современной физики, математики и естествознания, исходя из идей Имманаила Канта и Эрнста Маха, он подверг критике понятие трехмерного пространства как результата субъективной ограниченности человеческого восприятия и выдвинул идею многомерного мира, в котором четвертым измерением является время, и привнес в изложение этой (по своему происхождению восточной) доктрины ряд новшеств. Идею мерности пространства он связал с психологией человека. Идеальная модель нового человека будущего, нового общества, а их отличает особенное понимание мира и жизни, по замечанию Успенского, могла бы разрешить «на другой плоскости» «социальные и политические вопросы, так остро выдвинутые нашим временем». Эти и другие идеи Успенского были близки Замятину, и об этом я написала в 2010 году небольшую работу «„Разговоры с дьяволом“ и „Tertium Organum“
АМ Кто-то еще из писателей увлекался теориями Успенского?
МЛ Горячим поклонником Успенского был английский писатель Бернард Шоу; в его архиве даже сохранился объемный конспект книги «Tertium Organum». А среди посетителей лекций Успенского в 1930-е гг. в Англии был другой английский писатель Олдос Хаксли, автор романа «О дивный новый мир» (1932). Возможно, что идеи Петра Демьяновича Успенского, усвоенные Замятиным и Хаксли и воплощенные в их романах по-разному, все же узнавались читателями как общие. И, может быть, поэтому идеи Бернарда Шоу, сформулированные в его философской пенталогии «Назад к Мафусаилу» (1921), вызывают ассоциации с произведением Замятина.
АМ Вероятнее всего, Замятин знал от Андрея Белого, с которым дружил, и об антропософском учении Рудольфа Штайнера?
МЛ Что касается интереса Замятина к учению Рудольфа Штейнера и возможных бесед Замятина на эту тему с Андреем Белым, то я не встречала до сих пор информации на эту тему. Может быть, я пропустила какие-то новые открытия.
А вот об увлечении Замятина идеями Александра Богданова свидетельствует сохранившийся конспект статьи «Собирание человека»; она опубликована в журнале «Правда» в 1904 году, а конспект составлен в августе 1906 года, в годы учебы Замятина на Кораблестроительном отделении Политехнического института. Богданов, разрабатывая свою теорию будущего государства, развивал идею Платона: «установленное государственным законом воспитание должно было быть обязательным для всех поколений и удерживать их на одном уровне». Эта идея в 1920 году будет беспощадно проводиться в жизнь новой властью, и Замятин вплетет ее в ткань романа «Мы» в образе Единой Нормы для всех.
АМ Замятин мог встречаться с Гурджиевым и Успенским? Я имею в виду пору дореволюционную? Тот же Гурджиев был в Петрограде в феврале 1917 года, а тот же Алексей Ремизов записывает в дневнике 20 ноября 1917 года: «Приходил Замятин. Накануне вернулся из Англии. Потянуло на родину погибать».
МЛ Документальные свидетельства о встрече Замятина с Гурджиевым и Успенским, насколько мне известно, исследователи пока не обнаружили.
АМ Как вышло, что Замятин не попал на тот знаменитый «философский пароход», на котором в 1922 году были высланы за границу лучшие представители российской интеллигенции и среди них философы мистического и религиозного толка?
МЛ Приговоренный к высылке за пределы страны, Замятин не отплыл в Германию ни на пароходе «Обербургомистр Хакен» 24 сентября 1922 года, ни 15 ноября на «Пруссии». Сохранившиеся документальные свидетельства, опубликованные Александром Галушкиным, Рашитом Янгировым и Григорием Файманом, говорят нам о том, что во властных структурах Петрограда и Москвы не было единой точки зрения на необходимость высылки писателя из страны. За отмену высылки хлопотали друзья и коллеги, организации и учреждения. Решающую роль могли сыграть ходатайства друзей — художника Юрия Павловича Анненкова и его жены актрисы Елены Борисовны, писателя Бориса Пильняка, историка Павла Щеголева. Неопределенное положение Замятина длилось два года, его то высылали, то оставляли в покое. Эта «заграничная история» завершилась только в августе 1924 года.
АМ Андрей Платонов воспевал техническое будущее человечества, всеобщую электрификацию и механизацию, его человек будущего мог заставить реки течь в обратном направлении, его машинист Маслов «летит вперед» на уже одушевленном паровозе. Замятина же, напротив, в те годы более всего беспокоит то, что «новый человек» будет лишен главного — души. Означает ли это, что Платонов и Замятин —писатели-антагонисты или просто Замятин был старше, потому и разглядел то, что в силу своего возраста еще не мог разглядеть Платонов?
МЛ Думаю, что Андрей Платонов и Евгений Замятин — очень разные и по своим интересам, и талантам, и по жизненному опыту. Путешествия (зарубежное плавание студентом-кораблестроителем, служебные командировки по всей России) и пребывание в Англии дали Замятину богатый материал для размышлений и темы для его произведений. Многое Евгению Ивановичу давали друзья и коллеги, он постоянно «варился в культурном котле» Петербурга-Петрограда-Ленинграда и Москвы. Фундаментом его произведений были основательно прочитанные книги, много, очень много книг… Неслучайно Замятина называли «писателем с научным багажом», каких в России немного. Жена часто упрекала его за страсть к постоянному движению и изменению, что мешало ей в повседневном быту и в ее работе секретаря-машинистки.
АМ Почему Замятин местом своего проживания выбрал Францию, почему не уехал в США в Голливуд, где им интересовались как сценаристом? Что-то не сложилось, побоялся далеко отрываться от своих?
МЛ Известно, что в Голливуд Замятина пригласил американский кинорежиссер и продюсер Сесиль Де Милль. В начале 1932 года в Берлине, а затем в Париже Замятин ожидал американскую визу. Отъезду Замятина в Соединенные Штаты помешала «Великая депрессия», всемирный экономический кризис, продолжавшийся 10 лет, с 1929 по 1939 г., который сильнее всего затронул США. В марте 1929 года Де Милль писал Замятину в Париж о том, что ему «очень нужен драматический материал», но „депрессия“ усложняет получение финансовой прибыли даже от самого качественного драматического развлечения».
АМ Насколько справедливыми вам кажутся слова Пильняка о Замятине из письма к Миролюбову: «Его несчастье, что он как человек почти совсем инженер и почти совсем не писатель (вещи плохо совместимые), как человек он очень не выигрышен, а человек он талантливый и умный. А как писатель: Вы ведь знаете, что он свое „Уездное“ написал, сидя в Петербурге, по Далю, России на видя, восприняв ее Ремизовым, — нам, провинциалам, все это видевшим на месте, ясно, что Замятин очень талантливо — врет, причем пишет таким языком, которым нигде в России не говорят». И дальше Пильняк продолжает в том же ключе, заканчивая убийственной оценкой: «Замятин не хочет видеть революции (не хочет перегореть ею, прорасти ее физиологией), он пишет, точно никакой революции не было, — и получается конфуз: писатель, у которого все в будущем — смотрит назад и сам весь в прошлом; он не чувствует физиологии революции, а чтобы быть писателем, надо — или любить, или ненавидеть — он же безразличен: поэтому у него получается умно и холодно». В это связи не кажется ли вам, дружба Пильняка и Замятина некоторым преувеличением со стороны историков литературы?
МЛ Думаю, что Замятин очень ценил свои дружеские отношения и с Пильняком, как и с Чуковским, и с Ахматовой… Он допускал, что друзьям могут не нравиться его произведения, также, как ему не все их сочинения нравились. Сам он был верным другом и глубоко переживал, когда друзья предавали его.
АМ «Серапионовы братья» действительно были детищем Замятина или он «подхватил» их уже после того, как они объединились? И как учитель «Братьев» относился к тому, что в братстве не было единства литературно-политических и творческих принципов?
МЛ «Величайшее несчастье русского искусства, что ему не дают двигаться органически, так, как движется сердце в груди человека: его регулируют, как движенье поездов», —писал Виктор Шкловский в 1920 году. Это остро ощущал и Евгений Замятин. И, когда появилась группа непохожих друг на друга талантливых прозаиков, поэтов и драматургов, Замятин обучал их литературному ремеслу и прочитал им курс «Лекции о технике художественной прозы». Часть слушателей создало литературное братство «Серапионовы братья», они считали Замятина своим учителем, а он иронично заметил, что был только «акушером при родах».
АМ Прав ли Дмитрий Быков, когда говорит, что малая проза Замятина, его эссеистика, представляют куда больший интерес, нежели два его романа, что Замятин больше теоретик искусства и новеллист?
МЛ Я могу понять и даже принять точку зрения Дмитрия Быкова. И сама поначалу придерживалась такого же мнения. До того момента, пока не начала комментировать роман «Мы». Кстати, у исследователей еще впереди главная задача — прокомментировать каждое произведение Замятина, «проходных вещей» он не писал.
АМ Можно ли поставить «Мы» в ряд главных для русской литературы метароманов ХХ века?
МЛ Думаю, что «Мы» — один из ключевых романов в русской литературе XX века. «Мелкий бес» Федора Сологуба, «Петербург» Андрея Белого, «Мы» Евгения Замятина… Список можно продолжить… Эти книги помогают понять Россию в ее прошлом и настоящем… И предсказать, каким будет ее будущее.
Похожие подборки
-
Позвонить -
СообщенияУ вас пока нет сообщений! -
Mой Лабиринт50 р. Дарим 50р. за регистрацию. Правила30 р. Баллы за ваши отзывы на книги5% Постоянная скидка уже на 2-й заказ -
0
ОтложеноЗдесь будут храниться ваши отложенные товары.Вы сможете собирать коллекции книг, а мы предупредим, когда отсутствующие товары снова появятся в наличии! -
0
КорзинаВаша корзина невероятно пуста.Лабиринт.Сейчас
Не знаете, что почитать?Здесь наша редакция собирает для вас лучшие книги и важные события.Главные книгиА тут читатели выбирают все самое любимое.
Не знаете, что почитать?
- Доставка и оплата
- Сертификаты
- Рейтинги
- Новинки
- Скидки
-
+7 499 920-95-25
Круглосуточная поддержкаВсе адреса и телефоны Лабиринта
-
Круглосуточная поддержкаВсе адреса и телефоны Лабиринта
-
Круглосуточная поддержкаВсе адреса и телефоны Лабиринта
- Контакты
- Поддержка
- Главное 2025
- Все книги
- Билингвы
- Книги для детей
- Комиксы, Манга, Артбуки
- Молодежная литература
-
Нехудожественная литература
- Назад в «Книги»
- Все книги в жанре «Нехудожественная литература»
- Все книги жанра
- Бизнес. Экономика
- Государство и право. Юриспруденция
- Домашние ремесла. Рукоделие
- Домоводство
- Естественные науки
- Информационные технологии
- История. Исторические науки
- Книги для родителей
- Коллекционирование
- Красота. Этикет
- Кулинария
- Культура. Искусство
- Медицина и здоровье
- Охота. Рыбалка. Собирательство
- Психология
- Публицистика
- Развлечения. Праздники
- Растениеводство
- Ремонт. Строительство. Интерьер
- Секс. Камасутра
- Технические науки
- Туризм. Путеводители. Транспорт
- Уход за животными
- Филологические науки
- Философские науки. Социология
- Фитнес. Спорт. Самооборона
- Эзотерика. Парапсихология
- Периодические издания
- Религия
-
Учебная, методическая литература и словари
- Назад в «Книги»
- Все книги в жанре «Учебная, методическая литература и словари»
- Все книги жанра
- Вспомогательные материалы для студентов
- Демонстрационные материалы
- Дополнительное образование для детей
- Дошкольное обучение
- Иностранные языки: грамматика и учебники
- Книги для школы
- Педагогика
- Подготовка в вуз
- Пособия для детей с ограниченными возможностями
- Словари и разговорники
- Художественная литература
- Скидки · Обзоры · Рецензии · Подборки читателей · Новинки · Рейтинг · Авторы · Изд-ва · Серии
- Все книги на иностранном языке
- Книги на английском языке
- Книги на других языках
- Книги на испанском языке
- Книги на итальянском языке
-
Книги на китайском языке
- Назад в «Иностранные»
- Все книги в жанре «Книги на китайском языке»
- Все книги жанра
- Курсы изучения китайского языка
-
Книги на немецком языке
- Назад в «Иностранные»
- Все книги в жанре «Книги на немецком языке»
- Все книги жанра
- Адаптированная литература на немецком языке
- Классическая литература на немецком языке
- Курсы изучения языка
- Литература на немецком языке для детей
- Нехудожественная литература на немецком языке
- Современная литература на немецком языке
-
Книги на французском языке
- Назад в «Иностранные»
- Все книги в жанре «Книги на французском языке»
- Все книги жанра
- Адаптированная литература на французском языке
- Графические романы на французском языке
- Классическая литература на французском языке
- Курсы изучения языка
- Литература на французском языке для детей
- Нехудожественная литература на французском языке
- Современная литература на французском языке
- Комиксы и манга на иностранных языках
- Все игрушки
-
Детское творчество
- Назад в «Игрушки»
- Все товары в разделе «Детское творчество»
- Все товары раздела
- Алмазные мозаики
- Витражная роспись
- Гравюры
- Другие виды творчества
- Конструирование из бумаги и другого материала
- Лепка
- Наборы для рукоделия
- Наклейки детские
- Панч-дыроколы фигурные
- Работаем с воском, гелем, мылом
- Работаем с гипсом
- Работаем с деревом
- Скрапбук
- Сопутствующие товары для детского творчества
- Творческие наборы для раскрашивания
- Фрески
-
Игры и Игрушки
- Назад в «Игрушки»
- Все товары в разделе «Игры и Игрушки»
- Все товары раздела
- Все для праздника
- Головоломки
- Детские сувениры
- Детские часы
- Другие виды игрушек
- Игрушка-антистресс
- Игрушки для самых маленьких
- Игры для активного отдыха
- Книжки-игрушки
- Конструкторы
- Куклы и аксессуары для кукол
- Кукольный театр
- Магнитные буквы, цифры, игры
- Машинки и Транспорт
- Музыкальные инструменты
- Мягкие игрушки
- Наборы для тематических игр
- Настольные игры
- Научные игры для детей
- Пазлы
- Роботы и трансформеры
- Ростомеры
- Сборные модели
- Слаймы
- Фигурки
- Электронные игры
- Скидки · Отзывы · Новинки · Рейтинг · Производители · Серии
- Все канцтовары
-
Аксессуары для книг
- Назад в «Канцтовары»
- Все товары в разделе «Аксессуары для книг»
- Все товары раздела
- Закладки для книг
- Обложки для книг
- Глобусы
-
Обложки для документов
- Назад в «Канцтовары»
- Все товары в разделе «Обложки для документов»
- Все товары раздела
- Другие обложки
- Конверты для путешествий
- Обложки для автодокументов
- Обложки для военных билетов
- Обложки для зачетных книжек
- Обложки для паспортов
- Обложки для проездных билетов
- Обложки для студенческих билетов
- Чехлы для карт, обложки для пропусков
- Офисная канцелярия
- Папки, скоросшиватели, разделители
-
Письменные принадлежности
- Назад в «Канцтовары»
- Все товары в разделе «Письменные принадлежности»
- Все товары раздела
- Карандаши черногрифельные
- Ручки
- Принадлежности для черчения
-
Рисование
- Назад в «Канцтовары»
- Все товары в разделе «Рисование»
- Все товары раздела
- Аксессуары для рисования
- Инструменты и материалы для каллиграфии
- Карандаши цветные
- Кисти
- Краски
- Линеры для творчества
- Мелки
- Наборы для рисования
- Палитры, стаканы-непроливайки
- Папки для чертежей и рисунков
- Пастель
- Тушь, перья
- Уголь художественный
- Фломастеры
- Холсты. Мольберты
- Сумки
-
Товары для школы
- Назад в «Канцтовары»
- Все товары в разделе «Товары для школы»
- Все товары раздела
- Веера, счетный материал, счетные палочки
- Другие виды школьной канцелярии
- Канцелярские наборы
- Косметички, кошельки
- Ластики
- Мешки для обуви
- Ножницы школьные
- Обложки для тетрадей и книг
- Папки для школьных тетрадей. Папки для труда
- Пеналы
- Пластилин
- Подставки для книг
- Рюкзаки, портфели
- Точилки
- Фартуки. Клеенки для уроков труда
- Школьная бумажно-беловая продукция
- Школьные наборы, подставки, органайзеры
- Для школы · Скидки · Отзывы · Новинки · Производители · Серии
- Все CD/DVD
-
Аудио
- Назад в «CD/DVD»
- Все товары в разделе «Аудио»
- Все товары раздела
- Аудиокниги
- Музыка
- Религия
- Видео
- Софт
- Скидки · Отзывы · Новинки · Рейтинг · Производители · Серии
- Все сувениры
- Календари
-
Сувенирная продукция
- Назад в «Сувениры»
- Все товары в разделе «Сувенирная продукция»
- Все товары раздела
- Альбомы, рамки для фотографий
- Детские сувениры
- Значки и медали
- Игрушки для животных
- Конверты для денег
- Магниты
- Новогодние сувениры
- Открытки
- Пакеты подарочные
- Подарочная упаковка
- Подарочные сертификаты
- Постеры и наклейки
- Праздничные аксессуары
- Таблички и статусы для рабочего стола
- Шкатулки
- Другое
- Скидки · Отзывы · Новинки · Рейтинг · Производители · Серии
- Весь клуб
- Журнал
-
Скидки и подарки
- Назад в «Клуб»
- Акции
- Бонус за рецензию
-
Только у нас
- Назад в «Клуб»
- Главные книги
- Подарочные сертификаты
- Эксклюзивы
- Предзаказы
-
Развлечения
- Назад в «Клуб»
- Литтесты
- Конкурсы
- Дома с детьми
-
Лабиринт — всем
- Назад в «Клуб»
- Партнерство
-
Приложения Лабиринта
- Назад в «Клуб»
- Apple App Store
- Google Play
- Huawei AppGallery

Мы используем файлы cookie и другие средства сохранения предпочтений и анализа действий посетителей сайта. Подробнее в пользовательском соглашении. Нажмите «Принять», если даете согласие на это.