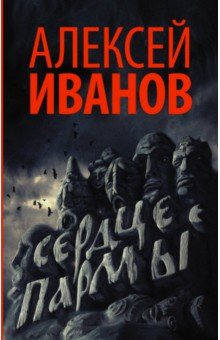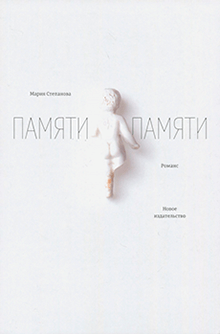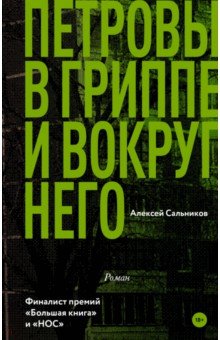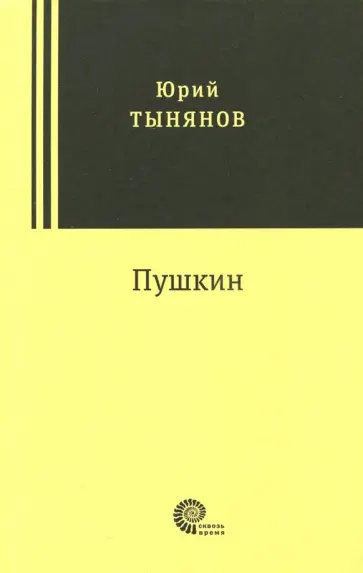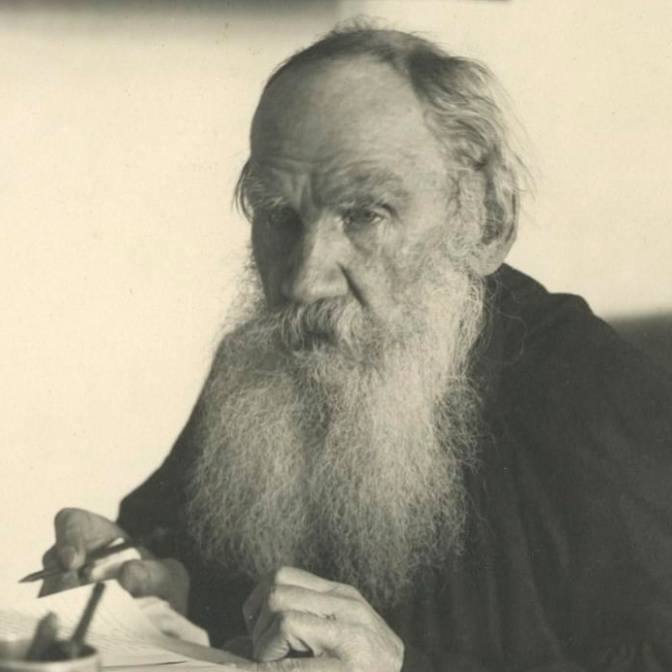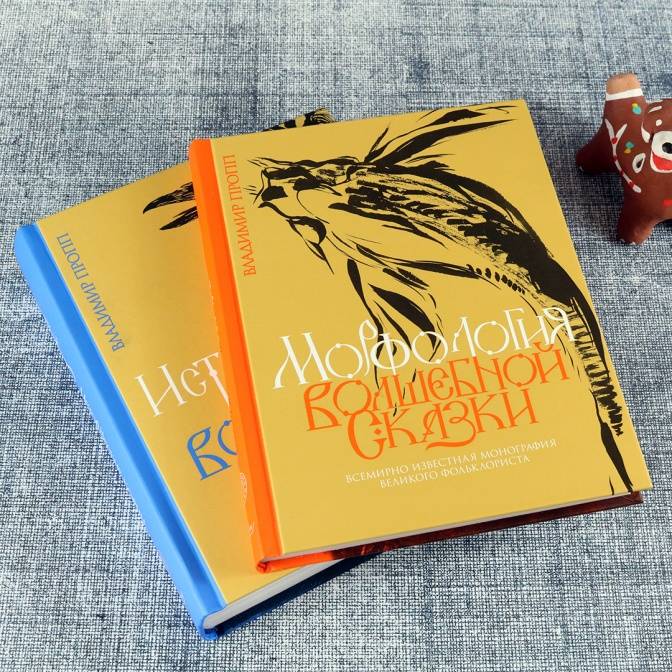Тэги
Зеленая лампа / Круглый стол.
Авторская рубрика Афанасия Мамедова
В начале 90-х в русскоязычной литературе случилась переполюсовка. Определение «отечественная», по понятным причинам, на время вышло из употребления, гранды советской литературы — растерявшиеся и растерявшие партийных покровителей — пропустили вперед себя новые, малоизвестные и неизвестные прежде дарования. И хоть толстые журналы, в большинстве случаев, продолжали публиковать перестроечные портфели и литературу русских и советских эмигрантов, понятно было, что интерес читающей публики сместился в сторону новой, отвечающей запросам изменившегося времени литературы.
Разобраться в этом прорвавшем плотину потоке было весьма непросто. Требовалась неотложная помощь экспертов в интерпретации и оценке произведений «новой волны», которую очень удобно для всех окрестили «постсоветской литературой». В эти плодоносные на яркие художественные произведения годы появилась целая плеяда газетных и журнальных критиков, обозревателей, среди которых были такие, как Андрей Немзер, Александр Архангельский, Мария Ремизова, Павел Басинский, Николай Александров, Михаил Эдельштейн, Вячеслав Курицын и много других талантливых и ярких. Их суждения и оценки художественных произведений были особенно интересны, поскольку сочетали в себе критическую дискуссионность и проверенные временем бесспорные суждения.
Ближе к «нулевым» и в начале первого десятилетия ХХI века читающая публика уже смотрела на зарубежную и отечественную литературу глазами Льва Данилкина, Анны Наринской, Галины Юзефович, того же Николая Александрова, Натальи Кочетковой… Произошло это далеко не случайно. Продвинутую публику и разогнавшиеся до индустриальных далей книжные издательства начал утомлять толстожурнальный снобизм, переходящий в героизм (о нем забывать тоже нельзя). Ну и, конечно же, нельзя сбрасывать со счетов харизму и дарование самих литературных обозревателей, их умение своевременно справляться с поставленной медийной задачей в рамках книжной рецензии нового образца — предельно жесткой, яркой, лапидарной… Попытки толстожурнальной критики, с ее подробными литературным разборами и анализом произведений в духе «большой» русской критики, отвоевать утраченные позиции, по большому счету, ни к чему не привели. «Сарафанное радио» хотя еще и продолжало работать, однако не так слаженно, как в советские времена.
Сегодня подобное положение вещей стало привычным, современного читателя оно, похоже, вполне устраивает, как, вероятно, устраивает и книжные издательства. На ниве литературной критики продолжают активно работать Анна Наринская, Галина Юзефович, Николай Александров. И все же хотелось бы разобраться: почему критика «большая» сдала позиции «малой», а «малая» — если ее можно так называть сегодня — того гляди уступит площадку ютьюбным дилетантам? Означает ли это, что нет более надобности в глубоком анализе и широком обсуждении литературных произведений, школ, направлений, тем?.. Что заставляет нас обратить внимание на вышедшую книгу: статус бестселлера, премиальный расклад, рецензии в печатных СМИ и в интернете, тематика произведения? И что способно переломить сложившуюся ситуацию? На эти и другие вопросы мы попросили ответить литературного критика, теле-и радиоведущего Николая Александрова; литературного критика и прозаика Марию Ремизову; литературного критика и обозревателя Галину Юзефович; историка литературы и литературного критика Михаила Эдельштейна.
Николай Александров:
«Литература осталась, эссеистика осталась, а вот критика, как жанр, как способ высказывания, кажется, приказала долго жить».
Честно говоря, я не вижу большого взлета критики в 90-х- нулевых. Может быть, просто потому, что мне не нравится само слово критика. Оно мне кажется слишком архаичным, то есть термином позапрошлого столетия, ну, и советской эпохи, которая больше дружила (менее подозрительно относилась) с веком ХIХ, а не ХХ. Критика — это публицистическое высказывание социально-политического (реже — философско-эстетического) характера в связи и по поводу художественного текста. Важно, что текст здесь — не более чем повод. Классические примеры, образцы такого рода высказываний — статьи Писарева о Пушкине и Достоевском, выступления Михайловского.
Попытка возрождения критического дискурса обычно усматривается, например, в статьях Андрея Немзера времен газеты «Сегодня»1. Но это был принципиально важный момент и вот почему. Для филолога 80-х (а Андрей Семенович, конечно, филолог), если он чувствовал себя филологом, — заниматься современной литературой было все равно что для историка заниматься историей КПСС. Наиболее значимые тексты ХХ века были, скажем так, полузапрещенными, а официальная и компромиссная литература (словесность толстых журналов) интереса почти не вызывала. «Лучше уж заниматься Чернышевским и Добролюбовым» — говорил один мой однокурсник. Проект Немзера во многом состоял в том, чтобы доказать — не только открывшиеся для публикации тексты начала ХХ века, советского андеграунда, неподцензурной литературы прошлого имеют значение. Нынешняя современная словесность художественно значима и ее можно судить по тем же законам и тем же мерилом, что и русскую классику (притом, что Андрей Семенович считал (с оговорками, конечно), что русская литература (или так — Русская Литература) умерла в 1852 году). Немзер намеренно сближал даже не ХХ, а ХIХ век и современность. Если угодно, это была реабилитация русской современной литературы как таковой, попытка доказать, что, нет, не только классика, но и современность имеет свои достижения. Отсюда знаменательные, к классическому веку обращенные названия его статей — «Взгляд на русскую литературу…». Но ведь критика Немзера (Вячеслава Куницына, Бориса Кузминского) — была газетной и, в каком-то смысле — совершенно не критикой. Критика всегда балансирует между публицистикой, филологией, собственно литературой, то есть писательством. Вот Павел Басинский2 у нас — писатель-критик, а Андрей Семенович Немзер — критик-филолог — «дьявольская разница». И, положа руку на сердце, — какие критические статьи 90-нулевых даже не средний, а искушенный читатель может назвать? А какие толстожурнальные критические публикации? Критический дискурс (в кондово-советском понимании этого слова) сменялся эссеистическим — в лучших образцах обозревательской журналистики. Эссе — столь распространенное и почитаемое на Западе, постепенно укоренялось и на нашей почве. Отсюда такой интерес к нон-фикшн, в частности. И литература здесь ни при чем. Литература осталась, эссеистика осталась, а вот критика, как жанр, как способ высказывания, кажется, приказала долго жить. И слава богу.
Мне всегда казалось, что задача обозревателя не оценить текст, а показать, как он сделан и почему он интересен (о неинтересных текстах и писать не стоит, хотя и приходится). Собственно, это филологический подход. Важно выявить смысл и способы его выражения. Остальное — дело читателя и сфера вкуса: кому и горький хрен — малина, кому и бланманже — полынь. Но журналистика требует доходчивости и популярности, очень часто ориентируется на «вкусы публики» («Марь Иванна не поймет»; «Кому это нужно» — обычные редакторские претензии). Это, с одной стороны. С другой — филологический дискурс, академический язык, сторонящийся свободы высказывания, скованный терминологическими рамками — тоже смертельно надоел. Так что подлинная свобода высказывания лежит где-то посередине: когда ты не думаешь, поймут тебя или нет, и одновременно избегаешь выспреннего академизма.
А насколько сегодня судьбы книг и их авторов зависят от литературных обозревателей, мне сказать трудно. Иногда кажется, что значимый текст сегодня так или иначе пробьет себе дорогу. Иногда бывает, что обозреватели помогают в этом. Иногда это происходит вопреки вкусам и пристрастиям экспертов. Алексей Иванов в свое время даже не попал в шорт-лист Букера с романом «Сердце Пармы». И что?
Отчасти есть определенная правда в суждениях тех литкритиков и литобозревателей, кто обвиняет современную русскую литературу в том, что она эгоцентрична, обособлена и игнорирует опыт мировых литератур. Русская литература с трудом выбивается из канона кондового реализма, бытописательства, скучного хроникального повествования. В этом смысле — большинство произведений современных авторов удивляют эстетической косностью. Порой сами писатели (и критики, кстати) эту косность считают достоинством. Современных писателей, стремящихся усвоить опыт других литератур, можно по пальцам пересчитать.
Нужен ли сегодня «гамбургский счет»? Мне кажется, что поделка и тем более подделка, халтура — всегда видна. Это, во-первых. А во-вторых, дело же не только в сопоставлении текста с безусловными литературными образцами (ведь как сравнивать — уже проблема), но в ответе на вопрос: насколько убедителен, гармоничен, ладен выстроенный автором художественный мир. А так — «автора нужно судить по законам, им самим перед собою поставленным» — давно было сказано. К сожалению, часто случается, что текст этим законам не соответствует.
Могу назвать навскидку несколько имен литературных обозревателей, которые сегодня качественно выполняют работу литературных критиков. С поправкой на мое отношение к критике: Лев Оборин3, Галина Юзефович4, Наталья Кочеткова5. Боже мой, да мне кажется все имена хорошо известны.
И я не согласен, что вся серьезная критика на протяжении двух десятилетий происходила исключительно в толстых журналах, и что возрождение ее будет напрямую связано с изменением той сложной ситуации, которая сложилась у нас с толстыми журналами. Возрождение толстых журналов (как восстановление дореволюционной России, например, или колхозов) невозможно. Это не значит, что они исчезнут. Просто их роль изменилась, аудитория сократилась. Толстые журналы — для специального чтения, для аудитории с вполне определенными интересами.
Может быть, сократилась дистанция между литературой серьезной и массовой. Или же просто меньше стало людей, которые читают книги. То есть это особая аудитория. И в этой аудитории нередко книга вроде «Памяти памяти» Марии Степановой успешно соперничает с каким-нибудь детективом.
Что заставляет меня обратить внимание на вышедшую книгу: статус бестселлера, присужденная премия, рецензии? Обозреватель, как правило, учитывает все. Вот не хотел я читать «Петровых в гриппе», а пришлось.
А 90-е годы — совершенно удивительное время. И дело здесь не в литературе. Дело в другом. Просто это был, говоря словами Кибирова, «другой эон». И это время ушло, и возрождение вряд ли возможно. Каждому человеку воздуху надо, воздуху, — как говорил известный герой Достоевского. А как издавать критические сборники — это уж дело десятое.
Да я не думаю, что большая критика сдавала позиции. Верней, шла сдача позиций по всем направлениям: это касалось общего упрощения и оскудения жизни. В 90-е расцвет критики тоже был мнимым: изданий, платформ и площадок было множество, они росли, как грибы, и лопались, как пузыри, и действующим критикам приходилось перепрыгивать с места на место, как в известной игре «перестройка». Что-то открывалось, что-то закрывалось, а из деятелей рынка никто не был в критике серьезно заинтересован, поскольку олигархи тоже ведь небескорыстно вкладывались в развитие медиа. Они решали свои частные задачи, и прелестные частности вроде нескольких отделов культуры (легендарных, как их сегодня называют ветераны) появлялись скорее как бонусы, как непредвиденный побочный эффект. И, правду сказать, об этих междусобойчиках весьма снобского толка я вспоминаю без ностальгии — как и о 90-х годах в целом. Было лучше, чем сейчас, но это ведь нетрудно. Ну, а потом, с общим убыванием сложности, упрощением и уплощением жизни, с очевидной деградацией всех советских и отмиранием постсоветских институций, — критике просто негде стало быть, и я не очень представляю, где ей сегодня базироваться. В песочницах вроде толстых журналов? В интернете, где право голоса имеет всякий и соответственно авторитетное суждение по определению невозможно (или, скажем иначе, авторитетно всякое суждение)? Есть еще одна важная причина — критика ведь в России никогда не ограничивалась литературой, она выносила суждения о состоянии общества. А сегодня это состояние таково, что серьезный разговор окажется слишком нелицеприятным: мы опустили планку слишком низко и миримся с огромным количеством вещей, с которыми мириться нельзя. В этих обстоятельствах критика сводится к премиальным прогнозам, пересказу сплетен и крайне субъективным рекомендациям. Об анализе литературных направлений, по-моему, говорить вообще бессмысленно, потому что кого интересует литература поздней Византии? Аверинцева? Так до него еще шестьсот лет.
Сейчас место толстых журналов вполне себе успешно занимает «Сноб», в котором, конечно, тоже полно дилетантизма, но есть и горстка профессионалов, читавших кое-какие книжки. Я бы связывал возрождение критики скорей с интеллектуальным глянцем — положение и качество толстых журналов сегодня настолько прискорбно, что ни о каком их возрождении думать не приходится. Они были когда-то инструментом противоцензурной борьбы — но сегодня в самих этих журналах свирепствует такая цензура (уже клановая, но не менее жесткая, чем государственная), что мое появление, скажем, в «Знамени» еще менее вероятно, нежели публикация в «Москве» или «Нашем современнике».
А вообще возрождение русской критики начнется с очередной статьи «Об искренности в литературе» — не очень представляю, кто станет этим новым Померанцевым. Кто-нибудь да станет. У нас сейчас в принципе на дворе то ли 1855, то ли 1940 год — какая литературная критика была в то время? В «мрачное семилетие», после смерти Белинского, — Боткин? Анненков? Дружинин? Не сказать, чтобы эту критику сегодня можно было перечитывать без мучительной неловкости, а иногда и просто скуки. До Писарева вообще не на ком взгляду отдохнуть. А в 1940 годы, кроме некоего Ф. Человекова, под каковым псевдонимом скрывался сами знаете кто? Да и то журнал «Литературный критик» был закрыт как раз в сороковом, а сколько-нибудь критический взгляд на соцреалистический канон — как, скажем, статьи Федора Левина о Макаренко, — немедленно вызывали травлю (хотя, правду сказать, в эту пору и Левин, и Макаренко уже ходили по весьма тонкому льду). Критика, по справедливому замечанию
Насколько судьбы книг зависит сегодня от литературных обозревателей, не преувеличиваем ли мы их роль? Зависит только в одном: первый критический голос надолго определяет общую инерцию, а поскольку влиятельных критиков мало (и любых вообще тоже мало), иногда случайный поверхностный отзыв способен породить читательское предубеждение. Вообще же судьбу книги определяет не мнение критика, а имя автора: институт репутации в России не работает почти нигде, кроме литературы. Это и хорошо, и плохо: писателю надо изредка ломать амплуа, а это не так-то просто сделать. Большинство даже не пытается. Я знаю в сегодняшней России очень мало писателей, способных написать две непохожих книги (про три и не говорю).
Профессиональные качества литобозревателя во все времена одни и те же: умение увлекаться, не только ругаться, но и восхититься, встать на авторскую позицию и оценить ее новизну; афористичность, то есть умение коротко сформулировать, чем хороша или плоха та или иная книга; эрудиция, позволяющая ущучить и зафиксировать вторичность; остроумие, ибо без элемента пародии рецензия превращается в скучный реестр похвал или претензий; хорошо бы не переходить на личности.
Во всем мире писатели стараются работать профессионально, то есть приковывать читательское внимание. И это отлично, это очень обнадеживает — что дистанция между высоколобой прозой, нон-фикшеном и беллетристикой сокращается. Скажем, от последнего романа Владимира Шарова «Царство Агамемнона» действительно трудно оторваться, и Шаров смело обращается к жанру журнального эссе (которое прямо включается в текст, словно выпорхнув из исторического глянца), к техникам шпионского романа, к приемам альтернативно-исторической беллетристики — которые у него маскируют глубокое понимание истории и вполне серьезные поиски развилок… В общем, не вижу ничего дурного в том, чтобы серьезная литература становилась массовой. Я в этом смысле отравлен просветительством — советским (разночинским) вариантом просвещения.
Могу назвать несколько имен литературных обозревателей, которые сегодня качественно выполняют свою работу. Сергей Оробий6. Елена Иваницкая7. Валерия Пустовая8. И хотя Валерия Жарова сейчас отошла от журналистики, я всегда любил ее разборы и продолжаю верить в ее абсолютный вкус. Я очень люблю Никиту Елисеева9 — и когда он ругает (всегда беспощадно), и когда хвалит (всегда увлеченно). Мне крайне интересен Михаил Ефимов 10. Я доверяю вкусу Майи Кучерской11. Хорошо ругается Александр Кузьменков, но если бы он иногда менял амплуа, это тоже обогатило бы его палитру: брюзжать и век брюзжать — как вас на это станет! (Одно время он старательно обходил меня — я когда-то благожелательно отнесся к его прозе, — но потом не удержался, и это было скорей приятно: неужели я хуже всех, думалось мне? Нет, слава Богу, и я наряду с другими талантливыми авторами попал под его залп; но, кажется, ему и самому уже поднадоело. Люди ведь любят быть добрыми, иначе мир давно бы погиб. Критика вообще занятие эмпатическое, ругать и придираться проще простого, я бы запросто не оставил камня на камне от любого шедевра — а толку? Даже самолюбие не греется). А вообще — проще назвать кинокритиков. Их больше, и они лучше. И, конечно, я очень рад за Павла Басинского и Льва Данилкина, ушедших из критики в литературу. Это путь Синявского, Чернышевского, путь Трюффо, в конце концов.
Что меня сегодня заставляет обратить внимание на вышедшую книгу? Вы не поверите — обложка, название, объем, а вообще есть безошибочный способ оценки. Я читаю первую и последнюю фразу. Если пространство, лежащее между ними, способно меня заинтересовать, то беру. Все остальное, и, в первую очередь, чужие мнения, способно меня в лучшем случае отвратить, а чаще всего не интересует вовсе. И что-то не помню, чтобы этот подход меня обманул.
Мария Ремизова:
«Для возрождения критики нужны тексты».
Ну, ответить на вопрос, чем был обусловлен взлет литературной критики в 90-е, проще простого: тем же самым, чем был обусловлен расцвет всей журналистики вообще. Свободой. Ей и только ей. Часто говорят: как будто форточку открыли. Я бы сказала: нет, это было, как будто сняли бетонную плиту. Я вот между прочим в середине 80-х бросила филфак, потому что совершенно ясно поняла, что просто все равно не смогу быть литературоведом. Ну не смогу я писать про американскую литературу, по которой я тогда специализировалась, так, как это тогда требовалось. Да и на фиг нужно-то… А тут бац — и вдруг начинает быть можно. И прям расцветают все цветы. И становится просто дико интересно — и жить, и наблюдать за жизнью. В том числе и за жизнью на поле искусства, литературы, конечно. То было прям кладбище какое-то, а тут вдруг — ух, броуновское движение. Люди начинают пробовать что-то, искать, нащупывать новые формы, новый язык. И ты просто физически чувствуешь эту наэлектризованность, понимаешь, что попал в поле экспериментов, самых рискованных. Ну и сам уже, как критик, как интерпретатор, ищешь, нащупываешь этот нерв, дух времени. Это же увлекательно невероятно. Ты ж прямо как толмач, первый антрополог, открывший неизвестное племя. Тут уже не до академической науки. Тут нужны, как бы это сказать, полевые заметки что ли. Если брать литературу — то, конечно, критика в первую очередь. Литературоведению здесь делать пока что нечего. Время не пришло. Ну, тут я быстренько закончила журфак, и давай разбираться в «новых языках», на которых заговорила отечественная литература.
Я газетный критик, сделавший себе имя в «Независьке», и, более того, к толстым журналам очень долго не подпущенный в силу разных причин, которые мы тут обсуждать не будем. Как минимум двое из названных здесь «главных критиков 90-х» — Андрей Немзер и Павел Басинский — тоже сделали имена, прежде всего, в газетах. В той же «Независимой» и «Сегодня» — Немзер, в «Литертурке» — Басинский. Другое дело, что тогдашняя газетная критика была ничуть не менее качественной, чем толстожурнальная, а в некоторых аспектах (например, в оперативности) еще и явно опережала. Так что возрождение критики я бы с толстыми журналами не связывала. Для критики отлично подходит и газетная площадка. Не в площадке дело-то в конце концов. Критике нужно всего две вещи — собственно объект для интерпретации, то есть какой-то интересный текст, и свобода слова. Причем свобода не только политическая, так сказать. Свобода еще и от корпоративных ограничений. Потому что литературный мир узок. И о-о-о-очень много обстоятельств способны влиять на поступки членов этого узкого мирка… Но, конечно, в первую очередь для возрождения критики нужны тексты. А с текстами сейчас как-то не очень. Увы.
Современный или не современный, неважно, литобозреватель должен обладать умом, начитанностью, вообще широким (в пределе — бесконечным) кругозором в культуре, концептуальным мышлением, логикой и чувством юмора. Желательно еще и совестью, конечно. И заступать он имеет право в любую сферу, кроме разве что личной жизни еще живых писателей и поэтов. А насколько судьбы книг от этих обозревателей зависят… Формально — зависят, конечно. Реклама — двигатель торговли, как говаривали в свое время. Только не обозреватель же в таком случае заказывает музыку, вот в чем дело. Нынешний обозреватель — он так, медиатор, скорее, проводник потребностей заказчика. Нынешняя рецензия — она ведь и не рецензия по большому счету. Так, расширенный анонс какой-то. Между прочим, отчасти, мне кажется, в этом виновата прекраснодушная идея критиков более молодого поколения 90-х, что, мол, не надо ругать — если текст не понравился, незачем о нем вообще писать. Сейчас эта идея (перевернутая с ног на голову, разумеется) стала эталоном критического письма. Больше никто не ругается, не клеймит, не указывает на недостатки — все только расхваливают. Ну, как на рынке прямо…
А то, что в каких-то областях действительно сглаживается разрыв между серьезной и массовой литературой, ну и что ж такого? Времена вообще меняются, и мы меняемся в них. О самых серьезных вещах можно говорить самыми простыми средствами, и можно использовать любые приемы, чтобы сделать текст читабельным, почему нет? Это же просто дикое заблуждение какое-то, что важный, значительный текст должен быть скучно-заумным. «Так он писал темно и вяло…» Зачем? Вон Апулей какие сложные идеи хотел донести — про герменевтику, Изиду, ну, всю эту орфическую мистику, а написал «Золотого осла». Которым уже две тысячи лет зачитываются, как увлекательнейшим романом. Для античности это был уж такой масскульт — мама не горюй.
Современных литобозревателей (если имеются в виду те, кто регулярно анонсирует книги) я не читаю. Могу назвать только пару имен действующих критиков. Лера Пустовая, Ольга Бугославская12, Елена Иваницкая. Их отзывы для меня много значат. И на вышедшую книгу меня заставляет обратить внимание только отзыв критика, чье мнение я уважаю. Все остальное — яркая обертка, пшик. Вообще не стоит внимания.
А по поводу того, что поле боя покидают не только хорошие критики, но и хорошие писатели, литературная судьба которых удачно складывалась в 90-е годы, скажу как в старом анекдоте: «В неволе не размножаются…». Другого ответа у меня нет.
У современной русской литературы свой, отличный от мировой, путь. А особый путь — он, как правило, никуда не ведет. Точнее, ведет в какую-то затхлую каморку. По мощам и елей, как говорится.
Галина Юзефович:
«Пять-шесть достойных книг в год — все же очень мало для страны с населением 150 000 000 человек».
Во второй половине 90-х годов, после великого кризиса постсоветского книжного рынка в 94−96 годах, российский книжный мир начал, по сути дела, отстраиваться с нуля, обрастая новыми институтами, которых раньше не было. И одним из таких институтов стала критика принципиально нового типа, ориентированная на разговор не с отборным, высококвалифицированным читателем, а с читателем «обычным», задающим себе не только вопрос «как думать про эту книгу?», но и «а нужна ли эта книга мне?» или даже крамольный «а что вообще почитать?». Надо сказать, что это сегодня мы видим ту эпоху в романтических красках, а меж тем расцвет критики конца 90-х годов далеко не всем казался таким уж расцветом. Критика переехала из специализированных изданий в издания общего профиля, тексты стали короче, проще по форме и, если так можно выразиться, быстрее — то есть резко сократилось время от момента выхода книги до момента появления рецензии на нее. Многим тогда это тоже казалось деградацией и «спуском в лифте».
Если же говорить о дне сегодняшнем, то тут мне кажется очень важным отметить, что критика все же в первую очередь производная от книжного рынка (в самом широком смысле этого слова), а не полностью самоценная вещь. Книжный рынок сегодня сжимается — не катастрофически и, я уверена, не окончательно, но все же довольно ощутимо. Люди меньше покупают книги, меньше читают, меньше о прочитанном думают — не потому, что поглупели и испортились, а потому что возникли новые формы времяпрепровождения, которые также требуют времени и душевных сил. Значит, и на критику спрос ниже — ведь она тоже претендует на тот же — весьма ограниченный — ресурс. Конечно, люди, которым важна не только сама книга, но и качественный подробный разговор о ней, будут всегда, только их сегодня меньше, чем было в конце 90-х, а через десять лет будет меньше, чем сегодня. Это естественный процесс, и убиваться по его поводу можно, но не продуктивно. Тем более что появляются новые площадки и новые способы говорения о литературе, которых раньше не было — все больше хорошего и интересного пишут в телеграмм-каналах, даже в инстаграме бурлит какая-то содержательная околокнижная жизнь.
Честно — я бы не рассчитывала на какое-то особое возрождение серьезной критики, и уж точно не стала бы связывать его с толстыми журналами. Мне кажется, что эта институция реликтовая — лично мне очень симпатичная, но не уверена, что нужная сколько-нибудь широкому кругу читателей.
Мне кажется, что единственное обязательное свойство литературного обозревателя сегодня — это, как ни банально, искренняя любовь к чтению. Заработать много денег в этой области невозможно, славу особую тоже не стяжаешь, так что нужна очень сильная и преимущественно внутренняя мотивация. Ну, а дальше идут уже требования следующего порядка — обширный читательский опыт, выраженный вкус (не в смысле какой-то там особенно «безупречный» и «высокий», а проработанный и отрефлексированный), навыки ориентирования в книжном пространстве, высокая работоспособность, умение логично, ясно и живо излагать свои мысли…
Насколько судьба книг зависит от литературных обозревателей? По-разному бывает. Иногда удается подтолкнуть интерес читателей к какой-то книге (так, я думаю, что если бы не рецензия Елены Макеенко на сайте «Горький», популярность романа Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него» была бы менее заметной), но далеко не всякая похвала критика обязательно оборачивается ростом тиражей, славой, премиями и всеми прочими атрибутами успеха. Критик может запустить первый камушек со склона, но превратится ли он в мощный камнепад, зависит от множества разных факторов.
Правы ли те, кто обвиняет современную русскую литературу в том, что она эгоцентрична, обособлена, игнорирует опыт мировых литератур и писать о ней скучно? Мне неприятно об этом говорить, но боюсь, что да — в этом суждении много верного. Русская литература действительно немного зациклилась на наших внутренних проблемах, мы словно бы варимся в собственном соку, и как результат по-настоящему хорошие романы на русском появляются до обидного редко. Пять-шесть достойных книг в год — все же очень мало для страны с населением 150 000 000 человек.
Честно говоря, я не очень понимаю разграничение на литературных обозревателей и литературных критиков, но если говорить о тех, кого мне всегда безоговорочно интересно читать, то нельзя не упомянуть Ольгу Баллу-Гертман13, Константина Мильчина14, Анну Наринскую15 (жаль, что в последнее время она очень редко пишет о книгах), Лизу Биргер 16, Елену Макеенко 17, Анастасию Завозову 18. Есть и несколько замечательных телеграмм-каналов — среди моих любимцев «Greenlampbooks», «Тисовая улица», «Книгочервивость», «KNIGSOVET», «Prometa.pro книжки» и многие другие.
Что меня заставляет обратить внимание на вышедшую книгу? Статус бестселлера, присужденная премия, рецензии, бренд того или иного издательства— все это и еще десяток других признаков и показателей, включая имена редакторов и рекомендации знакомых из профессиональной сферы — у меня сложная система оповещений, я как рыбак, который разом следит за парой сотней удочек, к каждой из которых прикреплен колокольчик.
Михаил Эдельштейн:
«Удивляться надо не малому числу действующих литературных критиков, а тому, что они вообще еще существуют».
Мне кажется, у обозначенной вами проблемы много причин. Можно говорить, скажем, про особенность российского бизнеса, ориентированного на немедленную и большую прибыль, что, понятно, к «культурным» изданиям не относится. Или про отсутствие читательского спроса на серьезный анализ, естественное в ситуации, когда средние тиражи беллетристических новинок, как отечественных, так и переводных, неуклонно падают.
И все-таки главная причина, на мой взгляд, — это пресловутый «формат». Русская критика традиционно существовала в «толстых» журналах. Критик в газете, за исключением короткого периода в начале ХХ века, рассматривался как фигура заведомо несерьезная. А в последние десятилетия оказалось, что «толстяки», при всем моем к ним уважении и даже любви, теряют читателей, тиражи, влияние, да к тому же практически неплатежеспособны. Актуальные площадки для критического высказывания — это ежедневная газета, «тонкий» журнал, интернет-сми.
Читатель «толстого» журнала был заведомо заинтересован в том, что скажет критик NN, тогда как читатель газеты прочтет (если прочтет) рецензию на новый роман или премиальный обзор между разбором футбольного матча и астрологическим прогнозом.
Людей, готовых и способных говорить о литературе в изменившейся медийной ситуации, оказалось не так много. Добавим к этому все то, о чем шла речь выше: незаинтересованность владельцев СМИ в качественных отделах культуры, отсутствие читательского интереса, экономическую нерентабельность профессии литературного (театрального, музыкального, балетного) обозревателя, общую недоразвитость системы русскоязычных медиа. После этого перечня становится ясно, что удивляться надо не малому числу действующих литературных критиков, а тому, что они вообще еще существуют.
Имена, упомянутые в статье
1. Андрей Немзер — советский и российский историк литературы и литературный критик, литературовед, профессор Высшей школы экономики; автор сборников литературно-критических статей, рецензий на наиболее приметные книги и журнальные публикации, полемических заметок, обзоров современной русской литературы.
2. Павел Басинский — российский писатель, литературовед и литературный критик. Входит в постоянное жюри премии А. Солженицына (1997). Автор наиболее полной неподцензурной биографии Максима Горького, изданной в 2005 году. Публиковался как критик в «Литературной газете», журналах «Новый мир», «Октябрь», «Знамя», «Дружба народов», «Наш современник», интернет-журнале «Русский переплет». Редактор отдела культуры «Российской газеты». Член жюри литературной премии «Ясная Поляна».
3. Лев Оборин — российский поэт, переводчик, литературный критик. Лауреат премии журнала «Знамя» (2010), редактор книжной серии «Культура повседневности» издательства «Новое литературное обозрение», сооснователь поэтической премии «Различие». В 2014 году входил в экспертный совет Национальной литературной премии «Большая книга».
4. Галина Юзефович — литературный критик. В разное время публиковалась в журналах «Плюсы-минусы», «Политбюро», «Ваш досуг», «Огонек», а также в «Российской газете». Сотрудничет с журналами «Эксперт», «Русский Newsweek», «Marie Claire», публикует колонки на сайте Полит.Ру.
5. Наталья Кочеткова — литературный обозревать, специальный корреспондент сайта «Lenta.ru», автор и ведущая программы «Книжкин дом». Публиковалась в газете «Известия».
6. Сергей Оробий — критик, литературовед. Кандидат филологических наук, доцент Благовещенского государственного педагогического университета. Автор ряда монографий. Печатался в журналах «Знамя», «Октябрь», «Homo Legens», «Новое литературное обозрение» и многих других.
7. Елена Иваницкая — российский филолог-литературовед, литературный критик, публицист. Автор многих статей о классической и современной литературе. Публиковалась в газетах «Будни», «Первое сентября», «Общая газета», «Литературная газета», «Новая газета», в журналах «Знамя», «Октябрь», «Дружба народов», «Родина», «Вопросы литературы», «Русская речь», «Нева», в сетевом издании «Русский журнал».
8. Валерия Пустовая — литературный критик. Заведующая отделом критики журнала «Октябрь». Лауреат Горьковской премии (2005) и премии «Дебют» в номинации «Критика» (2006). Писала о прозе З. Прилепина, Д. Новикова, Р. Сенчина, Д. Гуцко, Н. Ключаревой, А. Карасева, А. Бабченко, С. Шаргунова, О. Славниковой, А. Иличевского, О. Павлова, В. Маканина, А. Кабакова, Е. Гришковца, П. Крусанова и др.
9. Никита Елисеев — советский и российский библиограф, литературный и кинокритик, публицист и переводчик. Как литературный критик и публицист печатался в журналах «Знамя», «Новый мир», «Звезда», «Вопросы литературы», «Новая русская книга», «Критическая масса», «Новое литературное обозрение», «Октябрь», «Нева», «Вестник Европы», «Арион», «Питерbook», «Эксперт Северо-Запад», «Век XX и мир», «Сеанс», в газете «Первое сентября», в сетевом издании «Русский журнал».
10. Михаил Ефимов — историк, заместитель директора по науке Государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника «Парк Монрепо» (Выборг). Сфера научных интересов — история Монрепо и его владельцев, история русской литературы XX в.
11. Майя Кучерская — российская писательница, литературовед и литературный критик, колумнист, педагог. Профессор факультета филологии НИУ ВШЭ. Лауреат Бунинской премии (2006), Студенческого Букера (2007). Победительница в читательском голосовании премии «Большая книга» (2013). Руководитель Школы литературного мастерства Creative Writing School.
12. Ольга Бугославская — журналист, литературный обозреватель «МК».
13. Ольга Балла (Гертман) — литературный критик, редактор отдела философии и культурологии журнала «Знание-Сила». Колумнист журнала «Дружба народов».
14. Константин Мильчин — российский литературный критик, журналист, историк. Автор статей, рецензий и обзоров в многочисленных изданиях, ведущий передач на радио и телевидении, главный редактор издания «Горький». Работал редактором отдела культуры журнала «Русский Репортер», обозревателем газеты «Ведомости. Пятница», вел телепередачу «Переплет» (канал «Style TV»), вел постоянную рубрику на радиостанции «Business FM, рассказывал о новостях литературы на радио «Маяк».
15. Анна Наринская — журналист, литературный критик. Работала продюсером телекомпании Би-би-си в Москве. С 2003 года — специальный корреспондент Издательского дома «Коммерсантъ».
16. Лиза Биргер — журналист, редактор, переводчик, литературный критик. С 2007 по 2012 год вела еженедельную рубрику книжных обзоров «Выбор Лизы Биргер» в журнале «КоммерсантЪ-Weekend».
17. Елена Макеенко — литературный критик, редактор проекта «Полка». Сооснователь и соредактор сибирского интернет-журнала Siburbia. Сотрудничала с изданиями «Афиша Daily», The Village, Booknik, Esquire, «Новый мир». Ведет обзор современной русской прозы на сайте «Горький».
18. Анастасия Завозова — книжный обозреватель «Esquire», «Горького», «Афиши», T&P и переводчик «Щегла» Донны Тартт, «Маленькой жизни» Янагихары, «Девочек» Эммы Клайн. Редактор спецпроектов «Meduza».
Похожие подборки
-
Позвонить -
СообщенияУ вас пока нет сообщений! -
Mой Лабиринт50 р. Дарим 50р. за регистрацию. Правила30 р. Баллы за ваши отзывы на книги5% Постоянная скидка уже на 2-й заказ -
0
ОтложеноЗдесь будут храниться ваши отложенные товары.Вы сможете собирать коллекции книг, а мы предупредим, когда отсутствующие товары снова появятся в наличии! -
0
КорзинаВаша корзина невероятно пуста.Лабиринт.Сейчас
Не знаете, что почитать?Здесь наша редакция собирает для вас лучшие книги и важные события.Главные книгиА тут читатели выбирают все самое любимое.
Не знаете, что почитать?
- Доставка и оплата
- Сертификаты
- Рейтинги
- Новинки
- Скидки
-
+7 499 920-95-25
Круглосуточная поддержкаВсе адреса и телефоны Лабиринта
-
Круглосуточная поддержкаВсе адреса и телефоны Лабиринта
-
Круглосуточная поддержкаВсе адреса и телефоны Лабиринта
- Контакты
- Поддержка
- Главное 2025
- Все книги
- Билингвы
- Книги для детей
- Комиксы, Манга, Артбуки
- Молодежная литература
-
Нехудожественная литература
- Назад в «Книги»
- Все книги в жанре «Нехудожественная литература»
- Все книги жанра
- Бизнес. Экономика
- Государство и право. Юриспруденция
- Домашние ремесла. Рукоделие
- Домоводство
- Естественные науки
- Информационные технологии
- История. Исторические науки
- Книги для родителей
- Коллекционирование
- Красота. Этикет
- Кулинария
- Культура. Искусство
- Медицина и здоровье
- Охота. Рыбалка. Собирательство
- Психология
- Публицистика
- Развлечения. Праздники
- Растениеводство
- Ремонт. Строительство. Интерьер
- Секс. Камасутра
- Технические науки
- Туризм. Путеводители. Транспорт
- Уход за животными
- Филологические науки
- Философские науки. Социология
- Фитнес. Спорт. Самооборона
- Эзотерика. Парапсихология
- Периодические издания
- Религия
-
Учебная, методическая литература и словари
- Назад в «Книги»
- Все книги в жанре «Учебная, методическая литература и словари»
- Все книги жанра
- Вспомогательные материалы для студентов
- Демонстрационные материалы
- Дополнительное образование для детей
- Дошкольное обучение
- Иностранные языки: грамматика и учебники
- Книги для школы
- Педагогика
- Подготовка в вуз
- Пособия для детей с ограниченными возможностями
- Словари и разговорники
- Художественная литература
- Скидки · Обзоры · Рецензии · Подборки читателей · Новинки · Рейтинг · Авторы · Изд-ва · Серии
- Все книги на иностранном языке
- Книги на английском языке
- Книги на других языках
- Книги на испанском языке
- Книги на итальянском языке
-
Книги на китайском языке
- Назад в «Иностранные»
- Все книги в жанре «Книги на китайском языке»
- Все книги жанра
- Курсы изучения китайского языка
-
Книги на немецком языке
- Назад в «Иностранные»
- Все книги в жанре «Книги на немецком языке»
- Все книги жанра
- Адаптированная литература на немецком языке
- Классическая литература на немецком языке
- Курсы изучения языка
- Литература на немецком языке для детей
- Нехудожественная литература на немецком языке
- Современная литература на немецком языке
-
Книги на французском языке
- Назад в «Иностранные»
- Все книги в жанре «Книги на французском языке»
- Все книги жанра
- Адаптированная литература на французском языке
- Графические романы на французском языке
- Классическая литература на французском языке
- Курсы изучения языка
- Литература на французском языке для детей
- Нехудожественная литература на французском языке
- Современная литература на французском языке
- Комиксы и манга на иностранных языках
- Все игрушки
-
Детское творчество
- Назад в «Игрушки»
- Все товары в разделе «Детское творчество»
- Все товары раздела
- Алмазные мозаики
- Витражная роспись
- Гравюры
- Другие виды творчества
- Конструирование из бумаги и другого материала
- Лепка
- Наборы для рукоделия
- Наклейки детские
- Панч-дыроколы фигурные
- Работаем с воском, гелем, мылом
- Работаем с гипсом
- Работаем с деревом
- Скрапбук
- Сопутствующие товары для детского творчества
- Творческие наборы для раскрашивания
- Фрески
-
Игры и Игрушки
- Назад в «Игрушки»
- Все товары в разделе «Игры и Игрушки»
- Все товары раздела
- Все для праздника
- Головоломки
- Детские сувениры
- Детские часы
- Другие виды игрушек
- Игрушка-антистресс
- Игрушки для самых маленьких
- Игры для активного отдыха
- Книжки-игрушки
- Конструкторы
- Куклы и аксессуары для кукол
- Кукольный театр
- Магнитные буквы, цифры, игры
- Машинки и Транспорт
- Музыкальные инструменты
- Мягкие игрушки
- Наборы для тематических игр
- Настольные игры
- Научные игры для детей
- Пазлы
- Роботы и трансформеры
- Ростомеры
- Сборные модели
- Слаймы
- Фигурки
- Электронные игры
- Скидки · Отзывы · Новинки · Рейтинг · Производители · Серии
- Все канцтовары
-
Аксессуары для книг
- Назад в «Канцтовары»
- Все товары в разделе «Аксессуары для книг»
- Все товары раздела
- Закладки для книг
- Обложки для книг
- Глобусы
-
Обложки для документов
- Назад в «Канцтовары»
- Все товары в разделе «Обложки для документов»
- Все товары раздела
- Другие обложки
- Конверты для путешествий
- Обложки для автодокументов
- Обложки для военных билетов
- Обложки для зачетных книжек
- Обложки для паспортов
- Обложки для проездных билетов
- Обложки для студенческих билетов
- Чехлы для карт, обложки для пропусков
- Офисная канцелярия
- Папки, скоросшиватели, разделители
-
Письменные принадлежности
- Назад в «Канцтовары»
- Все товары в разделе «Письменные принадлежности»
- Все товары раздела
- Карандаши черногрифельные
- Ручки
- Принадлежности для черчения
-
Рисование
- Назад в «Канцтовары»
- Все товары в разделе «Рисование»
- Все товары раздела
- Аксессуары для рисования
- Инструменты и материалы для каллиграфии
- Карандаши цветные
- Кисти
- Краски
- Линеры для творчества
- Мелки
- Наборы для рисования
- Палитры, стаканы-непроливайки
- Папки для чертежей и рисунков
- Пастель
- Тушь, перья
- Уголь художественный
- Фломастеры
- Холсты. Мольберты
- Сумки
-
Товары для школы
- Назад в «Канцтовары»
- Все товары в разделе «Товары для школы»
- Все товары раздела
- Веера, счетный материал, счетные палочки
- Другие виды школьной канцелярии
- Канцелярские наборы
- Косметички, кошельки
- Ластики
- Мешки для обуви
- Ножницы школьные
- Обложки для тетрадей и книг
- Папки для школьных тетрадей. Папки для труда
- Пеналы
- Пластилин
- Подставки для книг
- Рюкзаки, портфели
- Точилки
- Фартуки. Клеенки для уроков труда
- Школьная бумажно-беловая продукция
- Школьные наборы, подставки, органайзеры
- Для школы · Скидки · Отзывы · Новинки · Производители · Серии
- Все CD/DVD
-
Аудио
- Назад в «CD/DVD»
- Все товары в разделе «Аудио»
- Все товары раздела
- Аудиокниги
- Музыка
- Религия
- Видео
- Софт
- Скидки · Отзывы · Новинки · Рейтинг · Производители · Серии
- Все сувениры
- Календари
-
Сувенирная продукция
- Назад в «Сувениры»
- Все товары в разделе «Сувенирная продукция»
- Все товары раздела
- Альбомы, рамки для фотографий
- Детские сувениры
- Значки и медали
- Игрушки для животных
- Конверты для денег
- Магниты
- Новогодние сувениры
- Открытки
- Пакеты подарочные
- Подарочная упаковка
- Подарочные сертификаты
- Постеры и наклейки
- Праздничные аксессуары
- Таблички и статусы для рабочего стола
- Шкатулки
- Другое
- Скидки · Отзывы · Новинки · Рейтинг · Производители · Серии
- Весь клуб
- Журнал
-
Скидки и подарки
- Назад в «Клуб»
- Акции
- Бонус за рецензию
-
Только у нас
- Назад в «Клуб»
- Главные книги
- Подарочные сертификаты
- Эксклюзивы
- Предзаказы
-
Развлечения
- Назад в «Клуб»
- Литтесты
- Конкурсы
- Дома с детьми
-
Лабиринт — всем
- Назад в «Клуб»
- Партнерство
-
Приложения Лабиринта
- Назад в «Клуб»
- Apple App Store
- Google Play
- Huawei AppGallery

Мы используем файлы cookie и другие средства сохранения предпочтений и анализа действий посетителей сайта. Подробнее в пользовательском соглашении. Нажмите «Принять», если даете согласие на это.