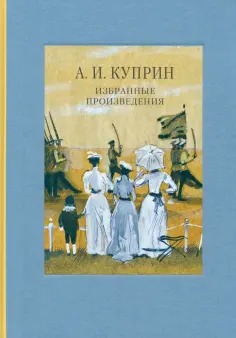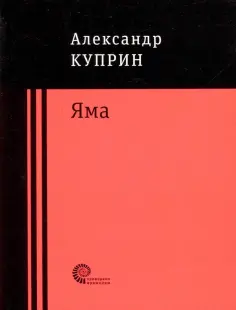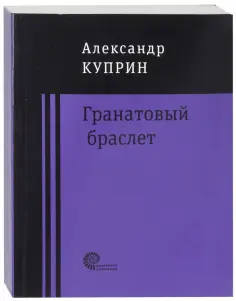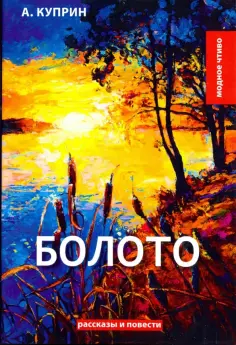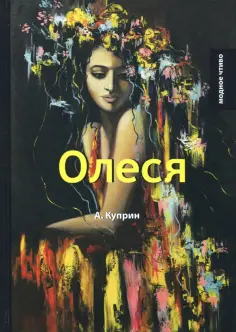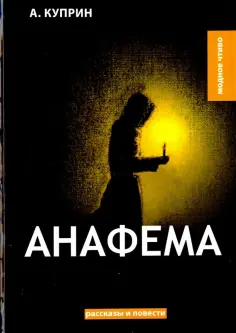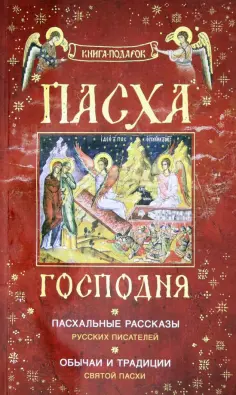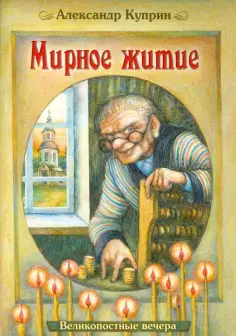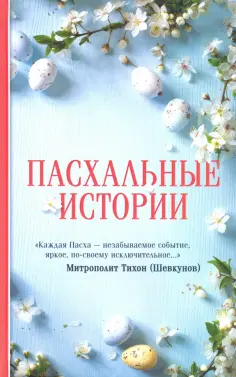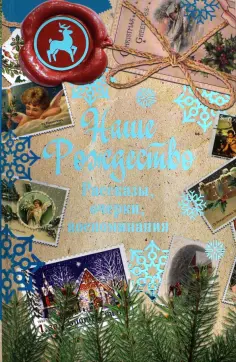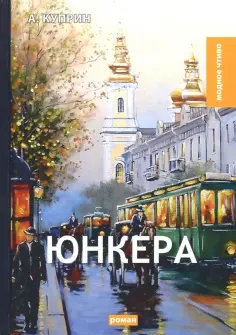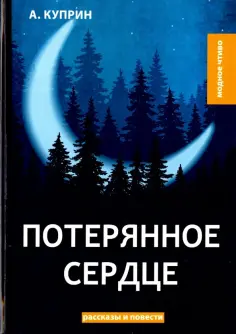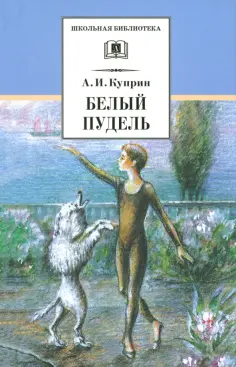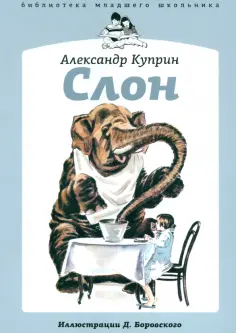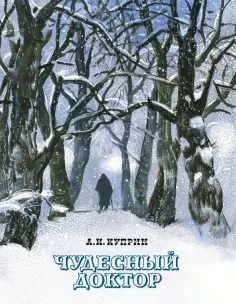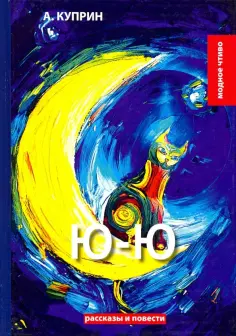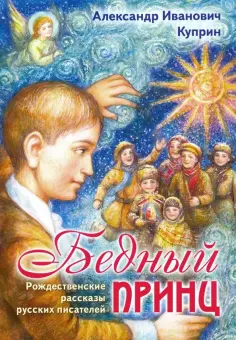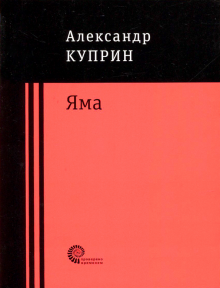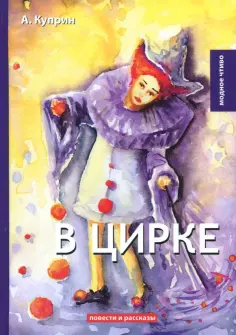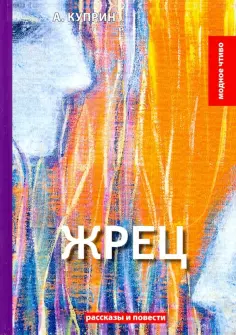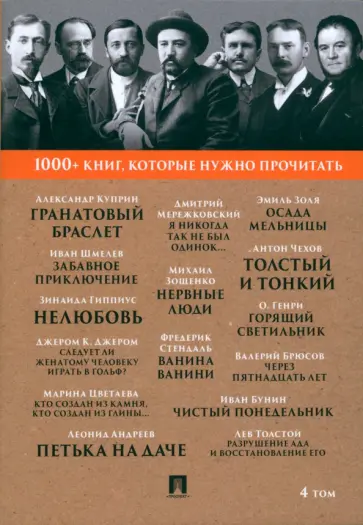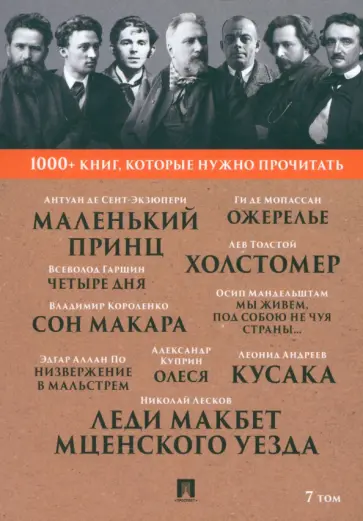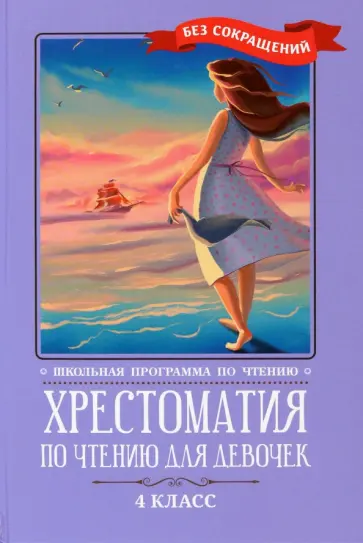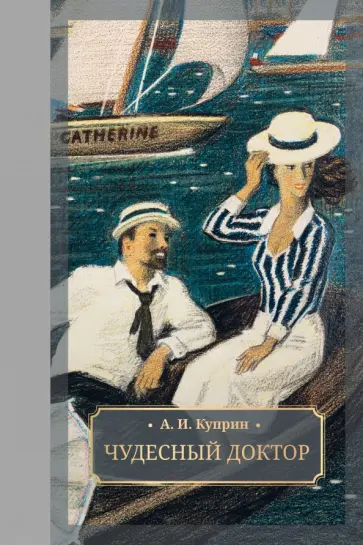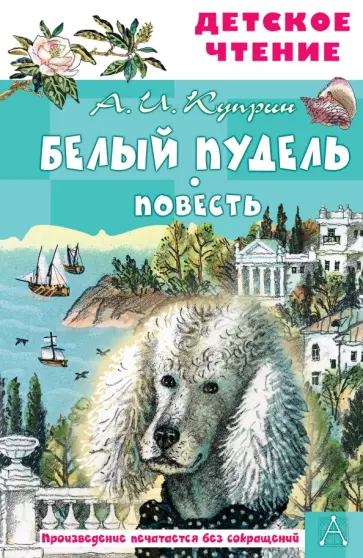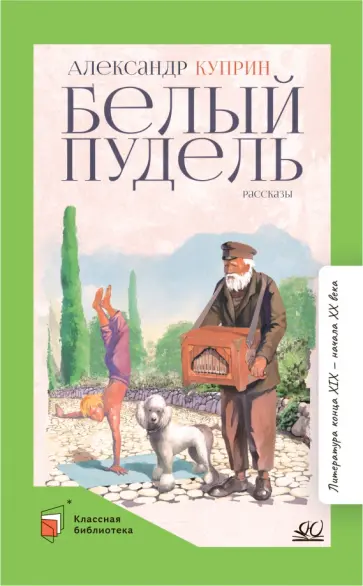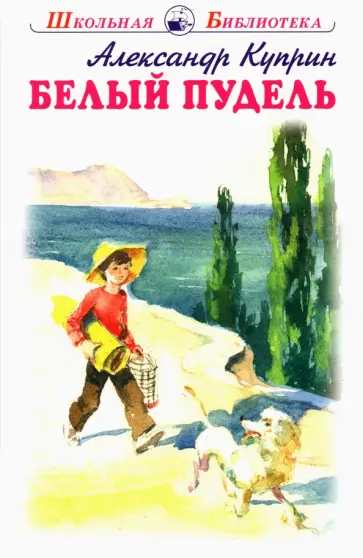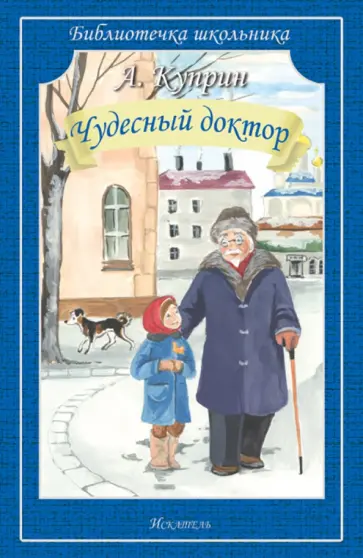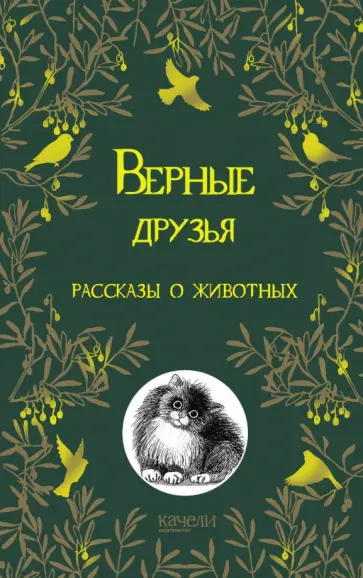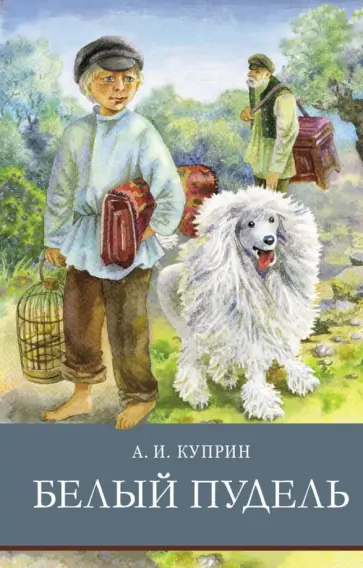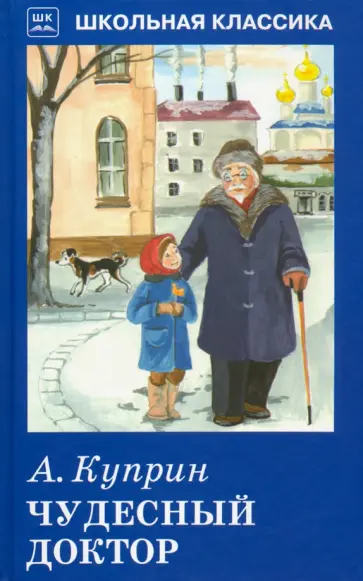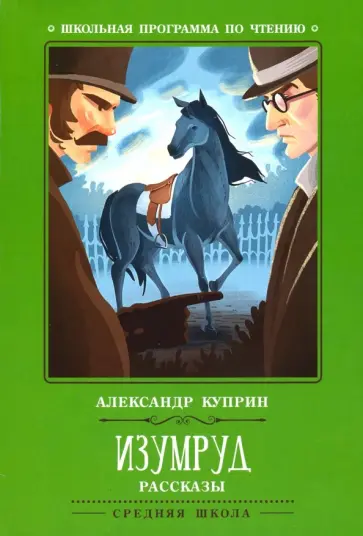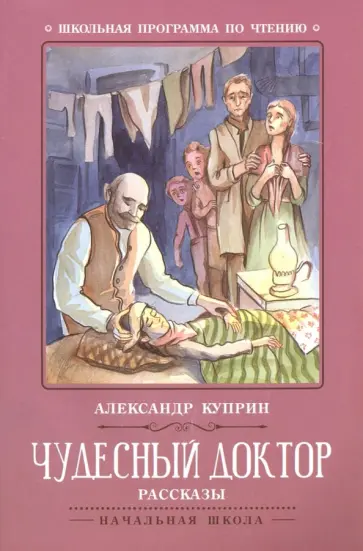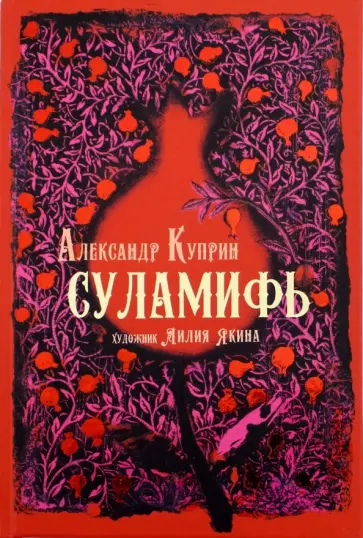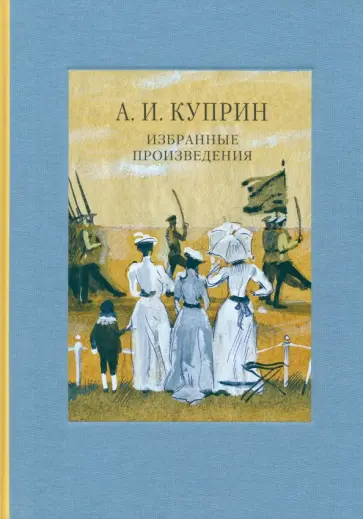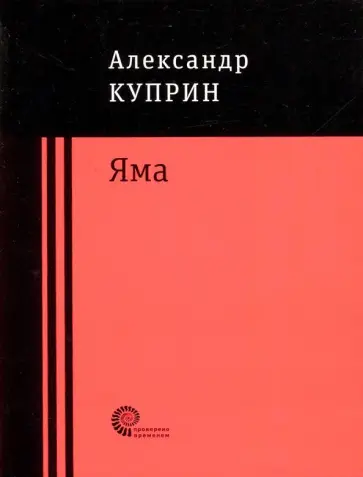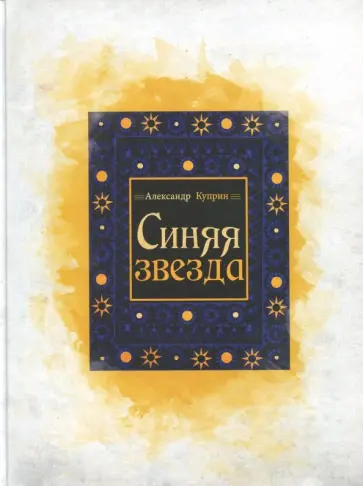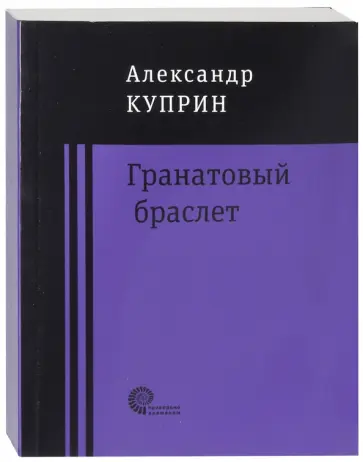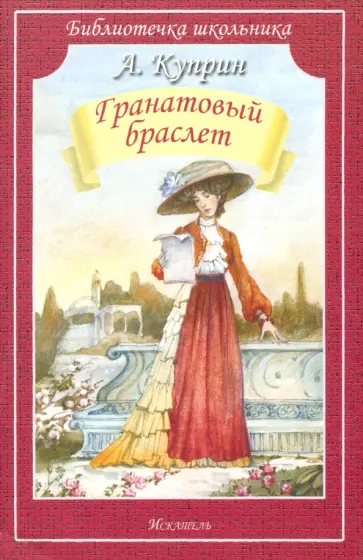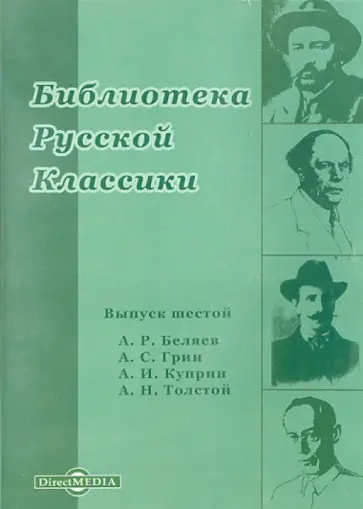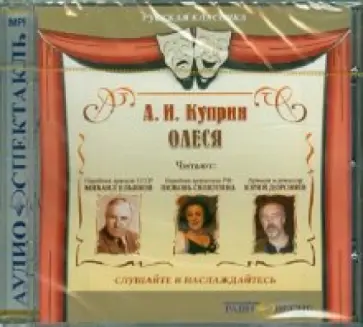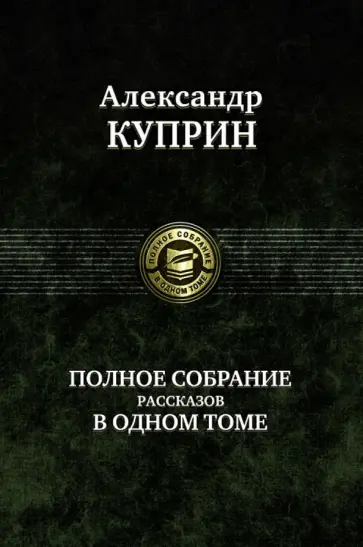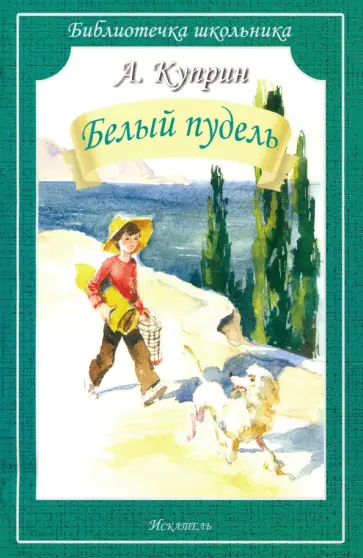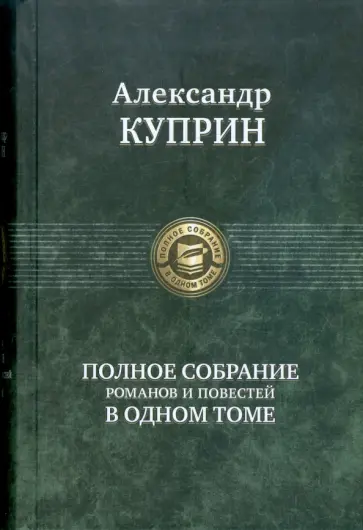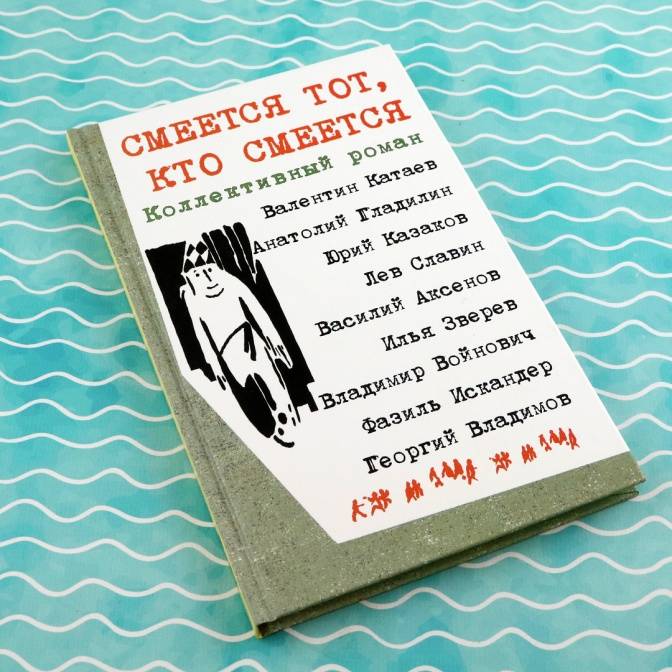Тэги
Авторская рубрика Афанасия Мамедова
Он был единственным из плеяды великих русских писателей-эмигрантов, кто все же вернулся в СССР. Причины возвращения Куприна — он был тяжело болен и ехал на родину умирать — советскими пропагандистами старательно скрывались, зато из самого возвращения, состоявшегося на фоне «большого террора» было выжито максимум того, что только возможно было выжать за один год жизни классика на обновленной родине.
Куприн вернулся в СССР в 1937 году с женой Елизаветой Морицевной Куприной. Его дочь, к тому времени знаменитая модель и звезда немого французского кинематографа Ксения (Киса) Куприна в СССР окажется позже, уже в оттепельные годы. Она-то и привезет с собою архив отца: рукописи, письма, заново отредактированные произведения, публицистические статьи, очерки… Все ею привезенное окажется крайне важно для изучения творческого наследия писателя. Так что можно с уверенностью сказать, что возвращение Ксении Александровны в Союз сыграло роль, которую переоценить трудно, без нее не открылся бы Дом-музей Куприна в Наровчате, и не появился бы, наверное, знаменитый «изумрудный шеститомник» Куприна — такой же символ оттепели, как и черные тома Хемингуэя.
Советская интеллигенция 1960−70-хх не только запойно читала Куприна, но с таким же интересом смотрела и фильмы, снятые по его произведениям — «Поединок», «Олеся», «Гранатовый браслет». «А потом слава его на родине не то чтобы померкла, нет, но начала как-то постепенно угасать. Наши читающие соотечественники все больше интересовались «Темными аллеями» соратника и соперника Куприна по перу Ивана Бунина, а позже главным писателем русского зарубежья стал Сирин/Набоков.
Какое место в ряду великих русских писателей занимает сегодня Куприн? Какова его читательская аудитория? Как реализм Куприна связан с символизмом? Какие мифы о Куприне оказались наиболее устойчивыми? Какие открытия произошли за последнее время в куприноведении? На эти и другие вопросы мы попросили ответить научного сотрудника пензенского Литературного музея ГБУК «Объединение государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области», автора многочисленных публикаций и составителя книг о Куприне, автора и редактора «Купринской энциклопедии», путеводителей по Музею А. Куприна Татьяну Кайманову; писателя, публициста и литературного критика Александра Мелихова; литературоведа, доктора филологических наук, профессора НИУ ВШЭ Олега Лекманова; поэта и литературного критика Елену Погорелую.
|
Я называю Куприна НЛО: неизученный литературный объект
|
Афанасий Мамедов С чего начинается родина Куприна, где его точка отсчета? И сколько у нас существует музеев его имени?
Татьяна Кайманова Музей Александра Ивановича Куприна — один. Находится он на родине писателя, в пензенском селе Наровчат, который, по словам самого Куприна, «вроде Москвы, но несколько красивее» — и этим все сказано. И хотя родительский дом восстановлен (он горел еще в конце ХIХ века — помните присловье: «Наровчат — одни колышки торчат»), но именно здесь в пяти маленьких залах спрессованы 68 лет жизни и творчества Куприна — воссоздана вся жизнь, так как нет его музеев ни в Гатчине, ни в Балаклаве, ни в Петербурге, ни в Одессе, ни в Житомире, ни в Париже.
Только в Вологодской области, в селе Даниловском есть «общий» музей-усадьба К.Н. и Ф. Д. Батюшковых и А. Куприна — в мемориальном барском доме, где у своего друга профессора
АМ Мы находим отзвуки этих мест в прозе Куприна?
ТК Без Наровчата и Пензенской губернии не было бы таких его произведений, как «Царев гость из Наровчата», «Леночка», «Храбрые беглецы», не были бы овеяны любовью и ностальгией «Юнкера», «Поединок» (ведь Ромашова Куприн сделал наровчатцем). Из наровчатской «кладовки» он доставал сюжеты, детские впечатления, яркие образы провинциалов.
В нашем музее со старых фотографий в рамочках смотрят все те, кого Куприн сделал героями своих произведений: мать, бабушка или Мария Ефимовна — «при всех своих прекрасных чертах порядочная таки дурища, дай ей Бог всякого счастья и здоровья. Она еще в Пензе этим качеством отличалась», «пензяк толстопятый» Хохряков — «большой чудак, как и все пензенские помещики», «добрый, веселый, честный и беспутный малый», как скажет о нем создатель «Дочери великого Барнума».
АМ Это правда, что отец Куприна был из дворян, а мать — татарской княжной?
ТК В Наровчатском гнезде, единственном средоточии семьи, которая вдруг после ранней смерти отца рассыпалась по разным углам империи, представлены редчайшие документы о месте рождения отца, его службе. Писатель никогда о нем не говорил, лишь вскользь упомянул в романе «Колесо времени»: «По отцу я, видишь ли, добрый спокойный русопет, вроде ярославского телка…», так что дворянином отец не был. Семью олицетворяла мать, и на видном месте родословная князей Кулунчаковых, из семейства которых происходила Любовь Алексеевна, «принцесса Кулунчакова». Все они пензенские.
АМ Вам удалось сохранить какие-то семейные вещи, реликвии?
ТК Дом-музей насыщен добротными вещами: покидая Наровчат, мать продала дом вместе с мебелью, которая сохранилась у других хозяев, и ныне можно посмотреться в старинное зеркало, открыть солидный резной буфет, дотронуться до клавиш семейного фортепьяно — дом «без богатства и нужды».
Найдены фотопортреты его друзей Араповых, ставших прототипами рассказа «Леночка». Известный иллюзионист, внук цирковой артистки Ольги Сур, увековеченной Куприным в цирковых рассказах, передал в музей ее фотографию. У внука баронессы
АМ Внесла свою лепту и дочь писателя Ксения Куприна?
ТК Наш музей был открыт при участии Ксении Александровны Куприной. Благодаря ей музей обладает хорошей коллекцией прижизненных изданий писателя, в том числе редких, вышедших в Париже и Белграде — они из библиотеки Куприна, именно эти экземпляры Куприн держал в руках. Нам перешла семейная переписка (более 100 единиц), и среди писем — четыре автографа Куприна. Среди эпистолярия три подлинных письма членов императорской фамилии: принца
Главное богатство — это подлинники, и они есть в провинциальном музее. Внимание привлекают поступившие от дочери Ксении графические портреты: подлинный шарж на Куприна художника Дени и три портрета, выполненные выдающимся художником Филиппом Малявиным в Париже в 1924 году — с них на посетителей смотрят похудевший стареющий Куприн, его жена Елизавета Морицевна, 16-летняя красавица Ксения.
Важное место в экспозиции занял паспорт Куприна-эмигранта, в котором указаны: место рождения «г. Наровчат, Пензенская губерния»; род занятий «литератор»; приметы… И мы узнаем, что глаза у него не серые, не зеленые, а карие; волосы русые, роста среднего. Ксения передала такие мемориальные вещи, как серебряная фляжечка Куприна, кофеварка. И семейную реликвию — венчальное кольцо матери с надписью внутри «Александр. 16 августа. 1909 г.»
И еще одна немаловажная особенность и преимущество нашего музея: вокруг дома сохранилось историко-мемориальное пространство старинного Наровчата. Рядом с домом Покровский собор, в котором крестили маленького Сашу Куприна; здание присутственных мест, где служил его отец Иван Иванович Куприн скромным письмоводителем.
В 2015 году между домом и собором установлен памятник Александру Ивановичу Куприну, дополненный рельефами с изображением его героев из произведений. С 1985 года в Наровчате проходит ежегодный Купринский праздник; уже 20 лет музей проводит Купринский конкурс «Гранатовый браслет» в литературной, художественной, театральной и музыкальной номинациях.
АМ Чем наши литературоведы, специалисты по Куприну отметили его полуторавековой юбилей?
ТК Назову именно «задекларированные» к 150-летию, то есть самые последние издания. Московское общество книголюбов подготовило сборник материалов Купринской конференции, которую им удалось провести очно. Архивная служба Мордовской республики выпустила буклет по материалам своей конференции «Известный и неизвестный Куприн». Иркутский купринист С. Ташлыков подготовил сборник «А. И. Куприн в зеркале интервью», в который собрал разрозненные в старых газетах и журналах интервью Куприна с начала 1900-х по 1930-е гг.
Было бы непростительно, если бы не откликнулась на юбилей Пенза. Объединение государственных литературно-мемориальных музеев, в которое входит и музей А. И. Куприна, провело Международную Купринскую научную конференцию «А. И. Куприн. Вне времени и границ» (к сожалению, в режиме онлайн), собравшую ученых из России (Москва, Петербург, Пенза, Пермь, Иркутск, Самара) и зарубежья (Сербия, Франция, Белоруссия, Узбекистан, Япония). Конференция была насыщена неизвестными доселе материалами — ждите, скоро опубликуем в интернете.
Литературный музей совместно с литературно-общественным журналом «Сура» подготовил «купринский» номер (сентябрьский).
Заслуживает внимания и новый документальный фильм «Поединок с жизнью», который снял пензенский тележурналист Павел Прохоренков, автор сценария — Татьяна Кайманова.
АМ В этом году, насколько я знаю, вышла еще и ваша книга «„Врут, как зеленые лошади“. Куприн в воспоминаниях, письмах, документах». Почему «зеленые лошади», что за странное название?
ТК После пережитых невзгод, нападок журналистов и критиков, сплетен Куприн писал близкому другу Ф. Д. Батюшкову 6 марта 1910 года: «Репортеры врут, как зеленые лошади». Название отражает не только отношение самого писателя к отзывам о нем, но и всю сложность восприятия личности русского классика, как его современниками, так и последующими исследователями.
АМ Что вам было важно донести до читателей?
ТК За прошедшие годы выявлено много новых источников. Сборник содержит неизвестные и малодоступные материалы о Куприне, всего более 150 текстов, имеющих художественную и историко-литературную ценность. Часть из них воспроизводится в России впервые.
Так впервые мы делаем доступными немногословные воспоминания-записки Э. М. Гликман, извлеченные из фондов Российского государственного архива литературы и искусства. Эсфирь Гликман просто и сухо изложила историю своего знакомства с Александром Ивановичем в 1930 году во Франции, в Бурбон-Лансу. Как развивался «курортный роман» дальше, можно проследить по также впервые публикуемым письмам стареющего Куприна, адресованным «милой, ненаглядной, прекрасной, ангельски чистой и доброй Эсфири Моисеевне» с признанием: «…полюбил искренне настоящей любовью, которая ничего не ищет, ничего не требует… всегда счастливый Вашим счастьем».
Любопытны воспоминания соседа по Гатчине Владимира Гущика, который в своей книге «Тайны Гатчинского дворца» рассказал интригующий эпизод об участии Куприна в 1918 году в сожжении царских писем.
Мемуарную часть поддерживают посвященные Куприну фрагменты дневников императора Николая II, великого князя Константина Романова, С. А. Толстой, директора Императорских театров В. А. Теляковского, композитора С. Прокофьева, Ф. Ф. Фидлера и др.
Воспоминания усилены эпистолярием: в сборник включены как письма самого Куприна, так и послания, обращенные к нему. И снова поражает круг современников, друзей и знакомых, имена которых заставляют внимательно вчитываться в страницы книги: политические деятели Антон Карташов и Борис Савинков; литераторы Саша Черный и Марина Цветаева, Алексей Ремизов и Сергей Городецкий, Дмитрий Мережковский и Дон-Аминадо; артисты Николай Колин, Клотильда и Александр Сахаровы, оперная дива — «Шаляпин в юбке» Нина Кошиц; художники Савелий Сорин и Наум Аронсон и др.
Впервые мы делаем доступными письма не подлежащего реабилитации писателя-генерала П. Н. Краснова, в которых отдельные фрагменты представляют собой воспоминания о встречах с Куприным в Гатчине в 1919 году.
Письма самого А. И. Куприна к различным корреспондентам дают редкую возможность «услышать» голос и почувствовать эмоциональный настрой Александра Ивановича в разное время и в разных обстоятельствах. Особенно пронзительно воспринимаются письма к И. А. Арапову 1917−1919 гг., к дочери Ксении 1914−1917 гг., последние письма к тайной любви его — Эсфири Гликман.
Комментарии к мемуарам развеивают мифы, ибо самый опасный вид рассказчиков — очевидцы, путающие воображение с памятью, что обнаруживает мемуарист из табуна «зеленых лошадей» Владимир Унковский, которому иные литературоведы доверяют безоговорочно и не устают цитировать его повествование-фантазию на тему «я — близкий друг Куприна» — вдохновенный, но очевидный вздор: Унковский путает Куприна с художником
В книгу включены, по образному выражению М. А. Осоргина «некие критические орудия», которые «затаились» в дореволюционных старых журналах или в эмигрантской прессе — это и статьи, рецензии, отзывы, неизвестные широкому кругу читателей на новые произведения А. И. Куприна. С этой же целью понять эмоциональное состояние писателя включен памфлет В. В. Князева «Красный трибунал. Дело Куприна», в котором автор бросает в лицо автора «Поединка»: «Куприн — Вы убийца!» Дополняет сборник художественный текст: та самая скандальная пьеса Н. Н. Ходотова «„Госпожа“ Пошлость», взбудоражившая в свое время и писателя, и окружение: в ней находили намеки на семейную жизнь Куприна, узнавали в образе Гаврилы Гаврилова Александра Куприна — пьеса, о которой сегодня слышать — слышали, но мало кто читал. Теперь есть возможность ознакомиться с редким и малодоступным произведением, чтобы не возникало кривотолков.
Сопоставляя рассказы, изучая сохранившиеся документы на фоне статей и переписки Куприна, мы различаем подлинный облик Александра Ивановича Куприна: от «наивного и жестокого», «элегантно одетого, с запахом дорогого одеколона», до «пьяного и неопрятного», «едкого, беспощадного… совершенно не умничающего, т.к. знает, что умен», «неукротимого», и «доброго дядюшки от литературы, чудаковатого, многоопытного, благодушного… склонного чуть ли не все понять и простить».
Перед нами предстает сложная личность «пегого», «пестрого» русского человека во всем блеске писательской славы и противоречиях.
АМ Кто же сегодня врет о Куприне, как «зеленые лошади»? Наверняка же есть такие?
ТК Интернет: в статье Википедии более десяти ошибок! — и эти ошибки потом повторяют все. Самые распространенные: уважаемая Википедия сообщает, что имя Куприна носят 7 населенных пунктов. Это выдумка! Действительно, есть села с названием «Куприно» на Украине, в Брянской, Рязанской, Нижегородской, Калужской, Тульской обл., а на Смоленщине еще и озеро, но в данном случае топоним не восходит к имени! Села носят эти названия с XVIII-ХIХ вв.
Вторая распространенная ошибка, что отец его был потомственным или личным дворянином, но отец писателя из разночинцев, из семьи лекарского ученика (фельдшера).
Больной вопрос о матери Куприна, вернее, об их отношениях. Сколько же пишут возмутительных нелепостей. Печальное зрелище доставила к 150-летию Куприна лекция одного профессора, в которой мать Куприна оказалась кухаркой. Безответственная статья А. Карасева «Завещание поручика Куприна», рекомендованная для альтернативного школьного учебника (писатели о писателях) и содержащая более десятка (!) грубых фактических ошибок, смесь выдумки и невежества о том, как мать «била и издевалась» над маленьким Сашей. Откуда тогда взялось купринское: «Ах, какая ты у меня восторгательная, мамочка. Какая ты золотая, брильянтовая!» и трогательное письмо состоявшегося сорокалетнего писателя: «…Ты мне теперь очень нужна, не твой ум, а твой инстинктивный вкус, которому я верю больше, чем всей теперешней критике… Согласись — нет у нас с тобою более близких людей, чем ты и я…»
К ошибкам относится и неверная датировка гибели жены, сейчас из последних документов известно, что Елизавета Морицевна покончила собой 7 июля 1943 года. Из одной статьи в другую повторяется нелепость, что Куприн в эмиграции ничего не написал.
Все это так печально, что впору писать второй том «Зеленых лошадей» о нелепостях и ошибках, которыми пестрят современные лекции, статьи и интернет.
АМ Могли бы вы вкратце рассказать, что представляет собой Купринская энциклопедия?
ТК Это первый, наиболее полный систематизированный свод современных научных сведений о Куприне, имевшихся в распоряжении купринистов на 2016 год. Куприн давно нуждался в современном осмыслении, его потенциал писателя и личности богаче, чем привыкли думать. Этот универсальный справочник охватывает все стороны жизни и творчества Куприна. Впервые введены в научный оборот многие архивные материалы. Поднят обширный круг вопросов, некоторые из которых никогда не исследовались. Содержится интересный иллюстративный ряд.
Энциклопедия задумана с целью привлечь внимание к Куприну, изучению его наследия, избавить от ошибок.
С сожалением отмечу мизерный тираж. Без комментариев — это показатель отношения к Куприну. Создана Купринская энциклопедия авторами бесплатно, как знак служения отечественной культуре.
АМ Жизнь Куприна была полна скитаний и странствий. Но сначала талантливый провинциал покорил столицу. Что представлял собою журнал «Мир Божий» в начале ХХ века, в который попал Куприн, оказавшись в Санкт-Петербурге? Какие знаковые произведения он напечатал в этом журнале?
ТК Участие в журнале поначалу принесло утеху самолюбию, а потом удар по самолюбию и раздражение, что его воспринимали как мужа жены-издательницы. В «Мире Божьем» напечатаны купринские произведения: «Ночная смена», «Болото», «Корь», «С улицы», «Штабс-капитан Рыбников» и уже потом, когда журнал сменил название на «Современный мир»: «Гамбринус», «Мелюзга», очерк «Памяти Н. Г. Михайловского (Гарина)», несколько рецензий. За подробностями скандала в «Мире Божьем» в бытность Куприна зав. беллетристическим отделом отошлю читателей к насыщенной архивными материалами статье М. Строганова «Куприн и «Русское богатство», в которой много говорится о «Мире Божьем» в судьбе Куприна.
АМ А какое влияние на Куприна оказали московские Телешовские «Среды»?
ТК Ободрили. Первое посещение было незабываемо-восхитительным, и он рассказывал в письме другу А. М. Федорову в начале ноября 1901 года: «Теперь я в Москве. Бываю на «Средах» у Телешова, видел там всю литературную Москву: …и модного теперь — и вправду, очень талантливого молодого писателя Леонида Андреева, и даже самого Шаляпина, слава которого в Москве теперь так велика, что даже на людей, видевших его вблизи, смотрят с почтительным удивлением. Вообще в Москве делается нечто удивительное. Нет ни одного эстампного, писчебумажного, табачного и фотографического магазина, где в 10−15 видах не красовались бы снятые вместе эти две знаменитости дня — Горький и Шаляпин (Толстого и Чехова давно уже убрали с витрин). Мне очевидец передавал, что около Avanzo двое мастеровых разглядывали эти портреты, и один спросил: «Кто это? — Как, ты не знаешь, дурак, — это наш спаситель. — А другой? — Другой — товаришш его».
У Телешова Куприн познакомился с Шаляпиным, Андреевым. Но московская «Среда» не стала для него средой обитания и общения, так как в Москве Куприн бывал наездами и редко. С Телешовым общался мало, и тот в своих «Записках» о Куприне отделался общими впечатлениями. Если судить по письмам Бунина и Телешова, то сотрудничество Куприна, очень нуждавшегося в 1908—1910 гг. и требовавшего «Деньги — на бочку!», в задуманных Телешовым сборниках не состоялось.
АМ С чем связано увлечение Куприна моральным учением Толстого, и как учение Толстого отразилось на творчестве Куприна?
ТК На мой взгляд, это сильно сказано: увлечение моральным учением Толстого. Я более склонна говорить о литературной этике и эстетике. Эстетике Куприна был близок молодой Толстой, призывавший любить жизнь, певец радости бытия и обновляющей человека природы. Куприн — страстный обожатель жизни. Толстой-пантеист определил главное направление писательской работы Куприна, любимым произведением которого стала повесть «Казаки», потрясшая сознание 17-летнего юноши (кто-то вышел из гоголевской шинели, а Куприн из толстовских «Казаков»). И настроение его позднего романа «Юнкера» перекликается с толстовским восприятием мира как чуда, жизни как счастья, обозначенным в толстовских «Казаках».
Признавая, что толстовская «кроткая проповедь» любви, прощения, смирения «многих умиляла, подымала, очищала», Куприн видел главное значение Толстого в том, что тот «показывал нам, слепым и скучным, как прекрасна земля, небо, люди, звери <…> говорил <…> что каждый человек может быть добрым, сострадательным, интересным и красивым душой».
Кстати, Куприна роднят с Толстым мысли «о нелепости прогресса», мотив лжецивилизации, и он во многом продолжает тему, затронутую Толстым в публицистической статье «Так что же нам делать?» — Куприн тоже воспринимал «механизацию жизни» настороженно, усматривая за благами цивилизации разрушающую силу, калечащую внутренний мир человека. И это звучит не только в «Молохе», но и в найденном в старом «Огоньке» 1917 года неизвестном рассказе «Старость мира» — страшном рассказе.
Всю жизнь Куприн испытывал влияние гения «Великого Старика», без которого русская литература не стала бы великой. В эмиграции Толстой воспринимался Куприным как олицетворение и оправдание России, ее мощи и силы, которые вселяют веру, что не погибнет страна и народ, породившие таких гениев («Мой герой — правда», 1926). Он берег портрет, подаренный Толстым, и этюд Репина: «Приду куда-нибудь, поставлю на стол и скажу: Здравствуйте, отцы! Такую Россию и бык не сжует, и собаки не сожрут, только лишь послюнят».
А вы знаете, что Куприн тоже чуть ли не был предан Анафеме?
АМ Нет, конечно!
ТК С Толстым его сближало отношение к официальной церкви, и церковь их не жаловала: в 1911 году один из иерархов, а именно саратовский епископ Гермоген, в Синоде обвинил Куприна, а также Андреева и Мережковского, в «интеллигентском хлыстовстве» и потребовал принять к писателям «самые решительные меры, а именно, отлучить их всех от церкви». А ведь Куприн — один из теплых христианских писателей, у которого «Христос за пазушкой», только христианские мотивы в творчестве Куприна почему-то рассматриваются на примере одного рассказа «Анафема», будто не существует «Лесенки Богородицы», «Алеши», «Медвежьего благословения», «Молитвы Господней», огромного цикла пасхально-рождественских рассказов, апокрифов и тематической публицистики, ветхозаветных аллюзий в его творчестве.
АМ Существует миф, что Куприн чурался политической публицистики, — но тогда, как понимать Сашу Черного, сказавшего в 1920-х, уже в Париже: Куприн «сменил кисть художника на шпагу публициста». Куприн ведь писал публицистику и раньше. Выступал резко, у него была своя позиция, в том числе и по отношению к большевикам.
ТК В дореволюционной России Куприн писал путевые и производственные очерки, литературно-критические статьи, но политический очерк был только один — «События в Севастополе», и Саша Черный знал Куприна как беллетриста, и с публицистикой Куприна 1917−1918 гг. не был знаком. С Куприным прочно связан давний стереотип аполитичности. Он принят на веру, благодаря признаниям самого писателя («Я не политик и не общественный деятель… Я всегда считал себя киплинговским диким котом («Sis! Sis!»). Но следует уточнить: Куприн чуждался политической болтовни — логофилии, как он насмешливо охарактеризует упоение политиков болтовней в фельетоне «Гибель племени Чичиме».
Для «спасения» от обвинения в антибольшевизме в советское время Куприна причислили к писателям, плохо разбирающимся в политике — так было безопаснее даже для уже мертвого классика. На протяжении многих лет культивировался сусальный образ благодушного демократа и гуманиста. Но политическая публицистика Куприна 1917−1918 гг. обнаруживает позицию умеренного консерватора. Это его общественная и политическая позиция, и в период переворота совсем не плохая, отличающаяся мудростью. Позиция писателя, осознающего свою ответственность перед обществом и обеспокоенного жестокостью, безнравственностью и аморальностью происходящего.
АМ Куприн активно выражал свое отношение к русской революции?
ТК В революционной прессе, в том числе в газете «Свободная Россия», которую Куприн в 1917 году взялся редактировать вместе с другом Петром Пильским, мною были обнаружены затерянные публицистические произведения Куприна 1917−1918 гг. Уникальны статьи 1917 года, публиковавшиеся им в цикле «Пестрая книга» (именно так я назвала книгу, вышедшую пять лет назад и вобравшую неизвестные произведения Куприна).
Купринской публицистике февральского и октябрьского периодов (до сих пор не вошедшей в его собрание сочинений) присущи хлесткость, беспощадность оценок, дерзость и безоглядная смелость писателя. Он сравнивает «лихорадочное время» и власть Советов со стихийным бедствием («нашествием саранчи», «бешеным быком», лопнувшим городским коллектором, затопившим нечистотами), которому невозможно противостоять. Главные свои публицистические произведения 1918 года Куприн объединил в малоформатный сборник «Тришка Будильник», названный по имени главного персонажа. В сборник вошли фельетоны: «Дневник ущемленного интеллигента», «Каломель», «Тришка Будильник», «Великий князь Михаил Александрович».
Его размышления о власти и сегодня читаются взахлеб. По убеждению писателя Октябрьская революция — бесчеловечный эксперимент, произведенный большевиками над Россией. Куприн без опаски, во всеуслышание заявляет, что власть пришедших большевиков бессмысленно жестокая, что подчас она опирается на преступные части общества. Революция, утверждает он в фельетоне «Тришка Будильник» — это благодатное время для аферистов и мошенников всех мастей. Наблюдая за действительностью, Куприн фиксирует, как быстро разрушаются моральные барьеры, хамеет душа (стихотворный памфлет «Дневник ущемленного интеллигента».)
За фельетон «Великий князь Михаил Александрович» Куприн подвергся аресту.
Саша Черный был свидетелем публицистического дарования Куприна уже в эмиграции 1920-х гг. Первые годы в эмиграции (с 1919 г. в Финляндии, с 1920 — во Франции) Куприн писал много: боль за Россию растекалась желчью фельетонов. Эмигрантское житие сдружило и сблизило Куприна и Сашу Черного, который и стал свидетелем бурной публицистической деятельности в стиле любимого Куприным Рошфора. «Я только способен изрыгать публицистическую блевотину, перемешанную с желчью, кровью и бессильными не то слезами, не то соплями» (Куприн. Письмо к В. Гущику). О чем пишет? О Троцком, Ленине, о политических спорах эмигрантов («Существовать в эмиграции, да еще русской, это все равно что находиться в тесной комнате, где разбили дюжину тухлых яиц»), о русском мужике и его представлении о власти.
Саша Черный верно оценил, что публицистика зачтется Куприну более, чем другим тома беллетристики. И так вплоть до 1927 года, пока не вышла книга «Новые повести и рассказы», а затем «Купол св. Исаакия Далматского», «Елань», «Колесо времени», «Юнкера», «Жанета», опровергающие устоявшееся мнение, будто Куприн в эмиграции ничего не написал, кроме публицистики.
АМ Куприн писал свой роман «Юнкера» с 1928 года по 1932 год. Отдельные главы его публиковались в газете «Возрождение». А в декабре 1932 года вышла рецензия Владислава Ходасевича на роман Куприна. Стоит ли говорить, что Ходасевич был не только великим поэтом, но и совершенно блистательным критиком, оценки которого имели, имеют и будут иметь колоссальное значение. Всю первую часть рецензии Ходасевич объясняет нам, что такое роман. Вспоминает даже чеховское ружье. Середину отводит под то, что автор «Юнкеров» пренебрег всеми правилами романного письма. А в конце объясняет нам, почему Куприн это сделал. Замечательная рецензия с неожиданной концовкой, но не есть ли она, вместе с ее кодой, данью Куприну, за все, что было создано им прежде? Пожалел ли старца безжалостный критик?
ТК Не все так просто. Чтобы понять всю подоплеку этой ироничной рецензии, надо из 1932 года вернуться к истории о том, как в мае 1924 года поссорились Александр Иванович и Владислав Фелицианович — из-за Пушкина. Тогда Куприн вступил в литературную полемику с Ходасевичем по поводу его «косолапой, бездушной попытки» закончить пушкинский набросок. Посчитав попытку крайне неудачной, Куприн публикует в этой связи статью-письмо «В. Ходасевичу». Состоялся резкий обмен мнениями-колкостями в открытых письмах, напечатанных парижскими газетами. Куприн не потерпел «посягательства» на Пушкина, в поэзии которого он утолял свой «голод по Родине», и позже иронизировал над тем, кто «прицепил свое тощее имя к великой тени». Ответы Ходасевича также отличал беспощадный сарказм. В открытом письме 1924 года Ходасевич припомнил и свое первое упоминание о Куприне 1913 г.: «<…> я высказал свое мнение о вас как о писателе некультурном».
Теперь же в рецензии на роман «Юнкера» с едва уловимой иронией деликатно отказал купринскому произведению в праве именоваться романом (все, что говорит Ходасевич, набор слов-характеристик, (я выделила курсивом) понимать надо от противного). Он перечисляет много не стреляющих ружей: «единства фабулы мы в „Юнкерах“ и не встретим <…> Имеется, в сущности, единственный герой, юнкер Александров. <…> все события и все встречи с людьми, в конце концов, оказываются совершенно эпизодическими. <…> Куприн словно бы говорит: вот вам жизнь, как она течет в своей кажущейся случайности <…> Вот если мы хорошо поймем эту философию книги, то нам откроется и то подлинное, очень тонкое, смелое мастерство, с которым Куприн пишет „Юнкеров“ как будто спустя рукава. Мы поймем, что кажущаяся эпизодичность, кажущаяся небрежность и кажущаяся нестройность его повествования в действительности очень хорошо взвешены и обдуманы. Простоватость купринской манеры на этот раз очень умна и, быть может, даже лукава. Куприн как будто теряет власть над литературными законами романа — на самом же деле он позволяет себе большую смелость — пренебречь ими». В этом наборе эпитетов рецензента подразумевается и оценка «романа».
Ответом Ходасевичу стала статья Михаила Осоргина «Москва и молодость», который хорошо уловил его иронию и начал так: «Мне совершенно безразлично, можно ли книгу „Юнкера“ назвать романом <…> От книги А. И. Куприна я жду и требую художественных очарований <…> И мое читательское ожидание не напрасно: Куприн дарит мне старые и дорогие картины: Москву и молодость».
На мой взгляд, «похвала» Ходасевича скрывает тонкую едкую иронию, и он отнюдь не «пожалел» старца, и его насмешку в эмиграции почувствовали. Ходасевич своей талантливой злостью, иронией и сарказмом напоминает мне Белинского: культура критики — редкостная. Импонирует эта легкость в отличие от тяжеловесной рецензии П. Н. Краснова на «Юнкеров». О «Юнкерах» дали отзывы М. Осоргин, И. Лукаш, П. Пильский (последний — пустословным репортерским навыком ни о чем).
Следует добавить, что после смерти писателя именно Ходасевич укорил И. Бунина, назвав его статью «Перечитывая Куприна» «суровейшим приговором недавно умершему другу», но при этом повторил свое прежнее заключение о Куприне: «Невелика была его культура… Старость лишила его того удальства, которое многими ошибочно принималось за мощность. Письмо его стало как будто бледнее, на самом деле — сдержаннее, благороднее. Он никогда не был человеком сильной мысли, но у него появилась та мягкая, пусть уже старческая, вдумчивость, которой ему прежде не доставало».
Соглашусь и с Ходасевичем, и с Г. Адамовичем, отметившим ту же особенность: «Культура сердца у этого писателя всегда была сильнее культуры разума».
АМ Как отнесся белоэмигрантский мир к возвращению Куприна в СССР?
ТК С обидой, но и с пониманием. В эмиграции Куприна безоговорочно воспринимали как последнего классика русской литературы, шли на его имя, откликались и доверяли. О значимости Куприна свидетельствует тот факт, что его произведениями открывались первые номера новых журналов, выходивших в парижской эмиграции: «За рулем», «Иллюстрированная Россия», «Окно», «Зеленая палочка». Этим признавался авторитет писателя в литературном сообществе, ему отдавалась пальма первенства. В эмиграции он один из столпов русской литературы, с 1921 года член правления и вице-председатель парижского Союза русских писателей и журналистов. На время болезни редактора журнала «Иллюстрированная Россия» М. П. Миронова именно Куприна назначают редактором популярного еженедельника.
И вот столпа не стало. Это был удар по эмиграции. Зинаида Гиппиус высказалась определенно: «Очень нехорошо это для нас. Как вопрос ни ставь — политически или неполитически — поступок Куприна — все-таки измена эмиграции. Большевики постараются использовать, появятся интервью, покаянные речи и статьи… это будут не слова живого Куприна, а те слова, которые захотят вложить в уста старого и усталого писателя московские власти». Марк Алданов опасался, что его решение будет соблазном для других. Но большинство говорили о бедности, нищете и болезни Куприна и не осуждали его отъезд. Старались свести к одному: так болен, что его увезла жена. Милейшая Надежда Тэффи, дружившая с Куприными, понимала: ушел умирать, «как благородный зверь в свою берлогу», чтобы лежать в родной земле. В воспоминаниях передавали слова Куприна: «Уехать, как А. Толстой, чтобы получить крестишки или местечки — это позор, но если бы я знал, что умираю, непременно и скоро умру, то я бы уехал на родину, чтобы лежать в родной земле». Помните вопль И. С. Шмелева: «Если умру, продайте мои штаны, книги, вывезите меня в Москву!»
Интереснее читать о возвращении Куприна в дневниках тех, кто жил в 1937 году в советской России. Внутреннее изумление молодого драматурга А. Гладкова, будущего автора пьесы «Давным-давно», его друга Н. Устрялова и других, сопоставлявших это событие и арест Тухачевского, самоубийство Гамарника. Но времена не выбирают…
АМ Знал ли Куприн о том, что Бунин помогает ему материально или это держалось в тайне? Вообще взаимоотношения Бунина и Куприна в дореволюционной России простыми не были, а как они складывались в эмиграции?
ТК Взаимоотношения Куприна и Бунина не исчерпываются словом «неровные», которое применяют литературоведы. Моя тема — переписка Куприна и Бунина («Перекличка: А.И. — И.А.». Из всей переписки друзей обычно цитируют два фрагмента, касающиеся получения ими в 1909 году Пушкинской премии одной на двоих. Хотя были и ранние письма Куприна Бунину, и обоюдные послания периода эмиграции, кстати, не только Куприну, Иван Алексеевич и Вера Николаевна писали и лично Е. М. Куприной. По письмам можно проследить, как сошлись сердцами «непохожие похожие». А из откровенной переписки Бунина с братом Юлием поймем, как много у них сходного: у Ванечки-дворянина имение прокучено отцом-пьяницей, нет ни дома, ни уюта, ни нижнего белья, ни двух копеек на марку; живет из милости у родственников в грязном холодном доме. Был ли Ванечка в детстве и юности счастливее и обеспеченнее Саши-сироты? Жизнь обоих била очень больно, и тот и другой были на грани самоубийства. Но Куприн, в отличие от Бунина не чурался физической работы, грузил арбузы, перетаскивал мебель, работал землемером…
Бунин сумел организовать свою жизнь без обязательств, Вера Николаевна обеспечила ему надежный тыл, а он ее предал. Что честнее: как Куприн, в компании друзей развлекаться с женщинами или привести в дом любовницу и жить с ней на глазах жены, как Бунин? «Содом» в его личной жизни (Бунин — Вера Муромцева — Галина Кузнецова — Марго Степун — Лев Зуров) не поддается нравственному осмыслению, и Куприну он претил, его отзывы в письмах друзьям были резки и однозначны. Один болен в нравственно-сексуальном смысле, другой болен алкоголизмом — и не знаешь, что лучше, но общество в лице ученых-литературоведов гораздо снисходительнее к безнравственному и сексуально озабоченному Бунину, чем к застенчивому алкоголику Куприну.
В эмиграции встречавшиеся с Буниным И. Одоевцева, Г. Гребенщиков, С. Прокофьев отмечали резкость, неучтивость, холодность, даже неприятность в общении. Но есть слова, и есть поступки.
В письмах другу-эмигранту Б. Лазаревскому Куприн подтвердил: «Бунина я люблю, как огромного писателя… Люблю в нем внутреннего человека, но не люблю такого, каким он хочет казаться к своей невыгоде». Вера Бунина очень точно обозначила, что сближало Бунина с Куприным: «Это была дружба с человеком, художественно чувствующим, как он сам. Они вели разговоры, которые потом вели только друг с другом — какое-то смакование художественных подробностей». В творчестве они вечные друзья-соперники. Слава Куприна гремела, когда Бунин был никому не известен, хотя в 1909 году он уже избран академиком по разряду изящной словесности. Бунин набрал силу и признание уже в эмиграции. А чтобы получить Нобелевскую премию (задумывались, почему Лев Толстой не получил?), надо было организовать отзывы, рекомендации, что и делал Бунин на протяжении нескольких лет. Что касается материальной помощи, Бунин выделил значительную часть от полученной Нобелевской премии на поддержку нуждающихся писателей-эмигрантов, был создан оргкомитет по распределению этих средств, и Бунин уже не вмешивался. Из этого не делали тайны. Куприн получил свой кусочек пирога в пять тысяч франков.
Уже после смерти Куприна писатель-генерал П. Н. Краснов очень точно высказался: «…возмутило и то, что писали о Куприне его друзья и собутыльники, и даже Бунин, не удержавшийся от того, чтобы в „Современных записках“ жестоко не раскритиковать того, кто был при жизни его самым крупным конкурентом». Слово сказано: конкурент. Ибо не будем забывать расхожую сентенцию: дружба между писателями — это вражда, вывернутая наизнанку.
АМ Действительно ли все опубликованное Александром Ивановичем в СССР написано не им, насколько точно это известно? А может, все-таки им, и так он расплачивался за свое возвращение?
ТК Этот вопрос — продолжение вопроса о возвращении Куприна. В СССР был написан и напечатан только очерк «Москва родная», а другие публиковавшиеся произведения были написаны Куприным задолго до возвращения. Он ли сочинил «Москву родную»? Скорее всего, «милый Коля Вержбицкий», давний друг-журналист, теперь «добровольно» взявший обязанности пресс-секретаря при больном Куприне. Куприн «не расплачивался», он уже ничего не боялся, знал, что болен (потерял до 60% зрения, перенес микроинсульт, его терзал рак) — он приехал умереть на родной земле. О его «нерабочем» состоянии было известно заранее, партийно-литературные функционеры, как секретарь Союза писателей В. Ставский, были разочарованы — они не получили желаемых агитационно-пропагандистских высказываний и материалов, которые так были им нужны от Куприна. С журналистами беседовала Елизавета Морицевна, ссылаясь на усталость и болезнь мужа. В советское время этот вопрос о работоспособности писателя нивелировали, из Куприна нужно было сделать раскаявшегося классика.
Так что вопрос об авторстве остается открытым. Советую перечитать всего Куприна, у него есть свои «ловкие словечки», узнаваемая манера письма.
АМ Много ли в наследии Куприна белых пятен?
ТК Вопросом на вопрос: а вы знаете, сколько произведений написал Куприн? В нашей памяти вертится десяток повестей и рассказов, всеведущий дядюшка Интернет приводит список только в 140 наименований. В полном собрании сочинений найдете уже 600. За последнее время в столичных архивах и библиотеках мне удалось выявить около 200 произведений, которые никогда не входили в собрания сочинений Куприна, большая часть их не перепечатывалась с 1917—1920-х гг. Для Купринской энциклопедии я составила алфавитный список его произведений, и вы будете приятно изумлены, узнав, что их более 950 в различных жанрах. Но не все художественное наследие Куприна собрано, только в этом году нашла в архиве еще две рукописи — неизвестные политические статьи Куприна. Вот такие белые пятна, черные дыры. Я так и называю Куприна: НЛО — неизученный литературный объект.
Практически неизвестен Куприн — переводчик в прозе, в частности, переводчик Стриндберга, которого, по собственному признанию, он чувствовал сердцем и переводил психологически точно. Но где искать эти издания («Исповедь безумца», «Красная комната») — у букинистов в Швеции? Еще не опубликован и ждет в архиве своего часа стихотворный перевод шиллеровского «Дона Карлоса», выполненный Куприным в 1918 году.
Не собрано эпистолярное наследие писателя, и хотя значительная часть писем включена в 10-й том собрания сочинений (М.: Воскресенье, 2007) и в книгу «„Врут как зеленые лошади“. Куприн в воспоминаниях, письмах, документах» (Пенза, 2020), необходимо, чтобы эпистолярий был издан полно отдельной книгой. Я уже и название придумала из письма И. С. Шмелева: «Александр Иванович, огрызнитесь письмецом!»
Если мы не располагаем полнотой сведений, значит, мы упрощаем человека и писателя. В куприноведении требуют решения такие вопросы, как академическое издание Полного собрания сочинений Куприна; Библиографический Купринский сборник; Летопись жизни и творчества А. И. Куприна.
АМ Остается ли сегодня популярным «детский» Куприн?
ТК Был и остается. Классикой стали «Слон», «Чудесный доктор», «Белый пудель», «Ю-ю». Знаете ли вы, что в 1920-е гг. в советской России активно перепечатывали купринские рассказы для детей (разумеется, без гонорара писателю-эмигранту). Так были изданы «Скворцы», «Белый пудель». По идеологическим соображениям в сборник «Два мира: барчата и ребята бедноты» включили «Белого пуделя», а в сборниках «На капиталистической каторге» и «Дети труда» без устали печатали купринский рассказ «В недрах земли». Сегодня детские книжки Куприна выходят в оформлении замечательных художников, среди которых Герман Мазурин (кстати, земляк Куприна, тоже пензенский родом). К детским рассказам Куприна обращается театр: в 2019 году в Московском ТЮЗе был поставлен «Слон».
АМ Какие произведения Куприна входят в число ваших любимых?
ТК Про фиолетового пса, то есть те, в которых много дерзости. В «Аllez!» это дерзкая Нора, с криком «Аllez!» (Вперед!) бросающаяся в смертельный прыжок; дерзкая воспитательница Наталья Давыдовна в одноименном рассказе, ведущая тайную ночную жизнь; дерзкая жена офицера Алмазова, решившая переиграть генерала и посадившая в ночь куст сирени на том месте, где его никогда не было на карте!
И по «шестому чувству» — последний из написанных Куприным рассказ «Царев гость из Наровчата», воскресивший забавную пензенскую историю о приезде российского императора в русскую глубинку, которой «ревностно завидовали толстопятая Пенза и раскормленный Тамбов». Сочинитель подарил себе пиршество воспоминаний о Родине (кстати, в нашем музее через открытую дверь последнего зала — из эмиграции — очень символично виден первый зал: Наровчат, окошко с трогательной тюлевой занавеской и геранью, фотографии родных и близких).
|
Страшно бедствовал, тосковал и приехал умирать
|
Афанасий Мамедов Вы недавно написали эссе о Куприне, которое заметно выделяется на фоне всего опубликованного к юбилею писателя. Мне тоже хотелось бы в разговоре о Куприне уйти от юбилейных штампов. Всеми нами любимый Сергей Довлатов мечтал писать как Александр Куприн — сам в прозе своей признавался, и в русской литературе занять такое же скромное, но почетное место. Почему же все-таки не лавры Чехова с Толстым привлекали Довлатова, а Куприна? Что их сближало?
Александр Мелихов В той же «Звезде», где вышло упомянутое вами эссе о Куприне, опубликовано и мое эссе о Довлатове, у меня там постоянная рубрика «Былое и книги». Я в нем привожу ответ Довлатова писателю и издателю Игорю Ефимову, предложившему Довлатову погрузиться в глубины собственной психологии, написать новые «Записки из подполья»: «Я не обладаю талантом, говорю это, поверьте, без кокетства, чтобы написать психологическую драму и вообще — книгу о внутреннем мире, у меня это не получится, и я даже не возьмусь никогда. Я знаю предел своих способностей, и думаю, что уже сейчас получил за свою литературу больше, чем заслуживаю». Это, с одной стороны, скромность, а с другой — честность. Довлатов видел, что его не влекут вечные темы, виртуозная стилистика, психологическая глубина — он писал восхитительные зарисовки с натуры, что лучше всего делал и Куприн.
А когда Куприн пытался вмешиваться в политику, получался агитпроп, как в «Молохе»: «Тысячи людей, инженеров, каменщиков, механиков, плотников, слесарей, землекопов, столяров и кузнецов собрались сюда с разных концов земли, чтобы, повинуясь железному закону борьбы за существование, отдать свои силы, здоровье, ум и энергию за один только шаг вперед промышленного прогресса». Да и купринские красивости меня коробят: «Успокойся, дорогая, успокойся, успокойся. Ты обо мне помнишь? Помнишь? Ты ведь моя единая и последняя любовь. Успокойся, я с тобой. Подумай обо мне, и я буду с тобой, потому что мы с тобой любили друг друга только одно мгновение, но навеки. Ты обо мне помнишь? Помнишь? Помнишь? Вот я чувствую твои слезы. Успокойся. Мне спать так сладко, сладко, сладко». Да простят меня поклонники и особенно поклонницы «красивого» Куприна, но, на мой прозаический взгляд, все возвышенное у него книжно и ходульно, зато все обыденное дышит подлинностью, как, скажем, репинские портреты. Но что получилось бы у Репина, надумай он написать нечто в духе, скажем, Семирадского?
Куприн этим грешил хотя бы в «Суламифи», Довлатов же, мне кажется, ни разу не оскоромился. По крайней мере, в известных мне вещах.
АфМ Если уйти в сторону от Довлатова, думаю, для того чтобы понять, какое место занимает сегодня Куприн в нашей жизни, нам следует найти его писательское местоположение в первой половине ХХ века, в текущей литературе тех лет. Кто из писателей того времени окружал Куприна, что писали о нем критики, как реагировали читатели?
АМ Модернисты, стремившиеся преодолеть классический реализм, считали его простоватым, но те, кто любил «правду жизни», ценили его очень высоко. Авторитетный критик Александр Алексеевич Измайлов его «простоту» считал признаком душевного здоровья: в нем нет ни малейшего надлома, ни малейшей извилины, ничего от той несколько болезненной психологии, отличающей Андреева и иных родственников Достоевского. Без особенной натяжки его можно было бы представить действующим в дни расцвета Тургенева, Толстого, Гончарова; Куприн продолжает вести все ту же толстовскую борозду, выгоды модернизма, как моды, ни на мгновение не соблазнили его.
И далее в том же духе: «Чудесный восторг перед жизнью, безумная жажда ее, восторженная влюбленность в теплую, милую землю, в дымящийся весенний лес, в русское росистое поле, в черную южную ночь, в сильного, здорового человека, в прекрасное женское тело — вот сфера Куприна»; «У Куприна какое-то повышенно-развитое обоняние, какое отличает не человека, а собаку или вообще зверя. Посмотрите его книги, намеренно останавливаясь на его определениях запахов, и вы увидите такое богатство гаммы, в каком с ним могут соперничать из русских писателей только такие любители и знатоки русской природы, как Аксаков, Тургенев и Толстой».
Вот и Мамин-Сибиряк говорил о Куприне: «Кстати, он, знаете, имеет привычку настоящим образом, по-собачьи, обнюхивать людей. Многие, в особенности дамы, обижаются. Господь с ними, если Куприну это нужно».
У Довлатова нет этой алчной влюбленности в чувственную, осязаемую, обоняемую сторону мира, он более лирик, чем живописец, осязатель и обонятель. Но читателям дорого и то, и другое.
АфМ Вы наверняка в курсе знаменитого письма нашего героя-юбиляра своему большому другу Федору Дмитриевичу Батюшкову. Письмо сие датировано 18-м мартом 1909 года, то есть «Поединок» Куприным уже написан, он купается в лучах вполне заслуженной славы, и ему, большому писателю, даже модный Леонид Андреев не угрожает, не говоря уже о Бунине. И вот в этом состоянии Куприн пишет резкое антисемитское письмо. Содержание его, стиль, все говорит о том, что мысли Александра Ивановича неслучайны, что он их долго вынашивал. Но, может быть, я не прав, и это был сиюминутный порыв, затмение гения, ведь известно же, что Александр Иванович был человеком взрывным? И как отнесся к этому письму сам Батюшков, человек нравов высоких, было ли продолжение у этой переписки на «еврейскую тему»?
АМ Я думаю, взрывной характер классика проявился только в резкости выражений: царя-де можно обругать, а попробуй обругать еврея! Но если пропустить ругательства, то главная претензия к евреям или, точнее, к русской либеральной интеллигенции такова: еврейские беды заслоняют беды русских мужиков. Ровно в этом же заключается главный итог первого тома исследования Солженицына «Двести лет вместе»: «Сила их развития, напора, таланта вселилась в русское общественное сознание. Понятия о наших целях, о наших интересах, импульсы к нашим решениям — мы слили с их понятиями. Мы приняли их взгляд на нашу историю и на выходы из нее». В своей статье «Каленый клин» («Дружба народов», № 1, 2002) я постарался показать, что ничего подобного не было, что либеральная интеллигенция использовала еврейский вопрос, как и все прочие проблемы, для расшатывания престола, а реальные беды еврейства ее мало волновали. Куприн и об этом пишет: самые большие хлопотуны за еврейское равенство, если в узком кругу их прижать к стене, признаются, что евреи им надоели с их нескончаемыми горестями.
Нельзя, однако, забывать: в этом же письме Куприн пишет, что, какие бы чувства по отношению к евреям мы ни испытывали, всеми гражданскими правами их нужно наделить. Только бы они не лезли в литературу!
АфМ Это место в письме вообще произвело на меня невероятное впечатление. То есть Куприн, в отличие от царя-батюшки, готов был поделиться с русскими евреями всем, кроме русской литературы. Что ж подвигло его занять подобную позицию?
АМ Примерно в те годы случился так называемый «чириковский инцидент»: критик-еврей указал драматургу Чирикову, что, не проведя детство в еврейском быту, русский писатель не может ощущать его глубинных свойств, а потому и не может судить о литературе из еврейского быта. На что Чириков сказал, что в таком случае и еврейские критики не могут судить о литературе из русского быта. Видимо, подобные дискуссии не раз возникали в кулуарах — одна из них и могла взбесить классика. Что Куприна, безусловно, не красит, но я почему-то к нему снисхожу: все-таки юридическое равенство он считал необходимым, а большего требовать наивно.
Несколько слов стоит сказать и о Федоре Дмитриевиче Батюшкове. В начале века они с Куприным вместе работали в редакции журнала «Мир Божий» — Куприн заведовал беллетристикой, а Батюшков был редактором. Это был крупный специалист по западной литературе, профессор, уважаемый всеми тогдашними классиками. Он всячески поддерживал Куприна, старался оторвать его от богемы, а проще — от пьянок, предоставлял ему кров в своей усадьбе Даниловское и впоследствии написал о нем воспоминания «Стихийный талант».
Куприн уважал его и любил, и клялся, что его дружба не изменится «ни от твоих или моих ошибок». Она и не изменилась: после смерти Батюшкова в 1920 году Куприн опубликовал в парижской газете «Общее дело» необыкновенно теплый некролог. Так что «ошибка» Куприна не разрушила их дружбы.
Раскаивался ли он в своей «ошибке», не знаю, тем более что заметных прозаиков-евреев в дореволюционной русской литературе и не припомню, все больше журналисты и критики.
АфМ Отношение Куприна к февральской революции известно — он ее принял, а вот что дальше?
АМ Куприн был очень далек от политических тонкостей — буржуазная революция, социалистическая революция… В те дни он, возможно, и слов таких не слыхал. Он ведь всегда держался поближе к материальным основам жизни, и для него дальше был, скорее всего, просто большевистский переворот. А отношение начало вырабатываться как реакция на их реальное правление.
Я уверен, что в «Яме» словами журналиста Платонова исповедуется сам Куприн: «Видишь ли, я — бродяга и страстно люблю жизнь. Я был токарем, наборщиком, сеял и продавал табак, махорку-серебрянку, плавал кочегаром по Азовскому морю, рыбачил на Черном — на Дубиниских промыслах, грузил арбузы и кирпич на Днепре, ездил с цирком, был актером, — всего и не упомню. И никогда меня не гнала нужда. Нет, только безмерная жадность к жизни и нестерпимое любопытство. Ей-богу, я хотел бы на несколько дней сделаться лошадью, растением или рыбой или побыть женщиной и испытать роды; я бы хотел пожить внутренне жизнью и посмотреть на мир глазами каждого человека, которого встречаю. И вот я беспечно брожу по городам и весям, ничем не связанный, знаю и люблю десятки ремесел и радостно плыву всюду, куда угодно судьбе направить мой парус…»
Здесь не случайно обрисован только первозданный, так сказать, этаж бытия — в этот увлекательный перечень не попадает ни искусство, ни наука, ни философия, ни политика. Свою жизнь под большевиками в «Куполе святого Исаакия Далматского» Куприн тоже начинает с почти аппетитных подробностей своей работы на огороде.
«Зимой ходил с салазками и совочком — подбирал навоз. Мало толку было в этом жалком, сухом навозе — его даже воробьи не клевали. Помню, однажды, когда я этим занимался, проходила мимо зловредная старушенция, остановилась, поглядела и зашипела на меня: „Попили нашей кровушки. Будя“. (Экий идиотский лозунг выбросила революция.) Собирал я очень тщательно зимою золу и пепел из печек. Достал всякими правдами и неправдами несколько горстей суперфосфата и сушеной бычьей крови. Пережигал под плитой всякие косточки и толок их в порошок. Лазил на городскую колокольню и набрал там мешок голубиного помета (сами-то голуби давно покинули наш посад, вместе с воронами, галками и мышами, не находя в нем для себя пропитания)».
И для урожая среди окаянных дней писатель находит прямо-таки поэтические слова. «Я собственноручно снял с моего огорода 36 пудов картофеля в огромных бело-розовых клубнях, вырыл много ядреной петровской репы, египетской круглой свеклы, остро и дико пахнувшего сельдерея, репчатого лука, красной толстой упругой грачовской моркови и крупного белого ребристого чеснока — этого верного противоцинготного средства. Оставались неубранными лишь слабенькие запоздалые корешки моркови, которых я не трогал, дожидаясь пока они нальются и потолстеют».
И в правлении большевиков его возмущает не высокая политика, а бытовая тирания. «Жить было страшно и скучно, но страх и скука были тупые, коровьи. На заборах висели правительственные плакаты, извещавшие: «Ввиду того, что в тылу Р.С.Ф.С.Р. имеются сторонники капитализма, наемники Антанты и другая белогвардейская сволочь, ведущая буржуазную пропаганду, — вменяется в обязанность всякому коммунисту: усмотрев где-либо попытку опозорения советской власти и призыв к возмущению против нее, — расправляться с виновными немедленно на месте, не обращаясь к суду». Случаи такой расправы бывали, но, надо сказать правду, — редко. Но томили беспрестанные обыски и беспричинные аресты. Мысленно смерти никто не боялся. Тогда, мне кажется, довольно было поглубже и порешительнее затаить дыхание, и готов. Пугали больше всего мучения в подвале, в ежеминутном ожидании казни.
Поэтому старались мы сидеть в своих норах тихо, как мыши, чующие близость голодного кота. Высовывали на минуту носы, понюхать воздух, и опять прятались".
В том же прощальном «Куполе» Куприн объясняет свой уход с Юденичем без всяких ссылок на отсутствие политических свобод («не дорого ценю я громкие права») — речь идет лишь бытовых свободах: «Свобода! Какое чудесное и влекущее слово! Ходить, ездить, спать, есть, говорить, думать, молиться, работать — все это завтра можно будет делать без идиотского контроля, без выклянченного, унижающего разрешения, без грубого вздорного запрета. И главное — неприкосновенность дома, жилья…»
Вот что для него было невыносимо — идиотский контроль, грубые вздорные запреты, от которых невозможно укрыться даже в собственном доме.
АфМ То, что Куприн впоследствии снял посвящение Горькому в повести «Поединок», тоже было связано с его позицией по отношению к большевикам?
АМ Уверен, что так.
АфМ В СССР отношение к литературе было особенным, и литература была на особом положении. За тем, что происходило на другом берегу русской культуры и словесности, внимательнейшим образом следили лучшие кадры НКВД. Общеизвестный факт — многих русских писателей, живых классиков в особенности, соблазняли всевозможными привилегиями, «приглашали» вернуться в СССР. Говорят, что в возвращении Куприна на родину в 1937 году не последнюю роль сыграла его жена, мол, она контактировала с чекистами. Так ли это на самом деле?
АМ Как всякая идеократия, советская власть стремилась поставить искусство себе на службу, использовать авторитет известных писателей для подкрепления своих позиций. Куприну же до социалистических или капиталистических идей было мало дела, но нищета и тоска по российской обыденной жизни его изводили. Вот несколько отрывков из его писем.
«Ах, если бы Вы знали, какой тяжкий труд, какое унижение, какая горечь писать ради насущного хлеба, ради пары штанов, пачки папирос».
«Живешь в прекрасной стране, среди умных и добрых людей, среди памятников величайшей культуры… Но все точно понарошку, точно развертывается фильма кинематографа. И вся молчаливая, тупая скорбь о том, что уже не плачешь во сне и не видишь в мечте ни Знаменской площади, ни Арбата, ни Поварской, ни Москвы, ни России, а только черную дыру».
«Но что же я могу с собою поделать, если прошлое живет во мне со всеми чувствами, звуками, песнями, криками, образами, запахами и вкусами, а теперешняя жизнь тянется передо мною как ежедневная, никогда не переменяемая, надоевшая, истрепленная фильма».
Так что, какова бы ни была роль его жены (а в писательских семьях очень часто именно жены занимаются практической стороной жизни), тоска Куприна по звукам и запахам несомненно была его собственная.
АфМ «Даже цветы на Родине пахнут по-иному» — неужели это Куприн написал так сентиментально?
АМ Георгий Адамович о парижских годах Куприна вспоминал так: «Здесь, даже еще не будучи старым, но как-то по-стариковски держась, Куприн казался каким-то добрым дядюшкой от литературы, готовым на все ответить улыбкой, склонным чуть ли не все понять и простить»; «и во всех его поздних писаниях есть нечто отвечающее этой беспомощности, этому блаженно-расслабленному состоянию, где-то посреди между старческой умудренностью и старческим маразмом»; «все в нашем оклеветанном мире „добро зело“, вот жаль только, что вскоре этот чудный мир придется покинуть…».
Поэтому я не думаю, что в благостных купринских интервью тридцать седьмого года прямо-таки все вписано руками политруков — таким действительно было его мироощущение последних лет: и цветы на родине пахнут по-иному, и метро роскошнее парижского, и проспекты шире, и молодежь спортивнее, и дети беззаботнее. Вот то, что в России возникло много заводов и городов, — это наверняка вписано: Куприн этого видеть не мог. Он вообще очень плохо видел, переходил улицу с посторонней помощью, да и жил за городом. Рассказывают о его последних месяцах разное, но эти рассказы настолько откровенно связаны с политическими интересами рассказчиков, что предпочитаю о них не упоминать. Там, где вмешивается политика, правды не узнаешь. Ясно одно: страшно бедствовал, тосковал и приехал умирать.
Очень грустная история, лучше не суесловить по этому поводу.
АфМ Какие произведения Куприна вы ставите в первый ряд, какие ваши любимые?
АМ «Поединок», «Яма», если убрать оттуда идеологические и мелодраматические красивости. «Листригоны», конечно. И чуть не забыл «Гамбринус», позор на мою голову. Вот тут Куприн никаких ошибок уже не допустил.
Или все-таки допустил? Он и в погромном безумии отказался видеть идейные мотивы: «Те люди, которые однажды, растроганные общей чистой радостью и умилением грядущего братства, шли по улицам с пением, под символами завоеванной свободы, — те же самые люди шли теперь убивать, и шли не потому, что им было приказано, и не потому, что они питали вражду против евреев, с которыми часто вели тесную дружбу, и даже не из-за корысти, которая была сомнительна, а потому, что грязный, хитрый дьявол, живущий в каждом человеке, шептал им на ухо: «Идите. Все будет безнаказанно: запретное любопытство убийства, сладострастие насилия, власть над чужой жизнью».
Но… «Ничего! Человека можно искалечить, но искусство все перетерпит и все победит».
|
Двусмысленное положение классика
|
Афанасий Мамедов Каково место Куприна в табели о рангах русской литературы?
Олег Лекманов Местоположение Куприна в истории русской литературы несколько странное, чтобы не сказать, двусмысленное. С одной стороны, кажется, никому не приходит в голову отрицать не только очевидный купринский талант, но и его изрядное писательское мастерство. С другой стороны, Куприна часто (и, увы, заслуженно) обвиняют в дурновкусии, писательской торопливости и даже бульварщине.
АМ Какова его читательская аудитория сегодня?
ОЛ Многие читатели любят прозу Куприна до сих пор (сужу, в том числе, и как преподаватель — студенты и студентки часто хотят писать курсовые и дипломы по купринским произведениям), серьезные литературоведы занимались творчеством этого автора мало. Куприн попал в тень Льва Толстого (о котором с восхищенной завистью говорил: «Старик нас всех обокрал, за что ни возьмешься — уже им написано»), Чехова, Бунина и даже Леонида Андреева (уж его-то, на мой субъективный взгляд, совсем незаслуженно).
АМ Какие произведения Куприна вы считаете наиболее удачными?
ОЛ Все же лучшие вещи Куприна — «В цирке», «Болото», «Корь», «С улицы», «Белый пудель», «Поединок», «Штабс-капитан Рыбников», «Юг благословенный», «Париж домашний» и некоторые другие, показывают очень большой масштаб его дарования и, вместе с тем, заставляют пожалеть, что к своему дару Куприн отнесся без должной бережности.
|
Главная сила Куприна как писателя — в способности услышать чуждую и чужую позицию
|
Афанасий Мамедов Вы автор сопроводительных статей к двум книгам издательства «Время» — «Яме» и «Гранатовому браслету» Куприна. Сами выбирали произведения, о которых хотели написать, или это был выбор издательства?
Елена Погорелая Насколько я помню, издательство предлагало на выбор несколько книг, которые потом расходились между несколькими авторами. Требования, чтобы тот или иной автор был непременно специалистом по творчеству своего «героя», предъявлено не было — важнее оказалась способность оценить текст с точки зрения сегодняшнего дня и заинтересовать этой оценкой читателя. Впрочем, с Куприным это несложно — читателя он неизменно заинтересовывает сам по себе.
АМ В своих сопроводительных статьях вы лаконично и при этом довольно точно рисуете «серебряновечную эпоху», ее «серебряную среду», вспоминаете и Георгия Иванова: «Стал нашим хлебом цианистый калий…» Куприну все декадансное, все символистское по идее должно быть чуждо — другой природы человек. Он даже в эмиграции не смог бы сказать: «Хорошо, что Бога нет…». Но, с другой стороны, и «Гранатовый браслет», и «Суламифь» — произведения с символистской дымкой-поволокой… Вот и вы пишите, что в «Яме» при желании можно легко найти «всякого рода „серебряную“ символику, в том числе и символику говорящих имен». Куприн оглядывался на литературную моду тех лет, а, может, не оглядывался, а был частью процесса?
ЕП Конечно, был частью процесса. Он ведь был знаком с Чеховым, Буниным, Леонидом Андреевым, жил в Петербурге, где все «серебряные» идеи и образы носились в воздухе, читал современных поэтов… К тому же Куприн как настоящий журналист чрезвычайно чутко воспринимал современность и откликался на то, что было наиболее актуальным на текущий момент. В 1905 году — на историческом фоне первой русской революции и русско-японской войны — таким острым моментом было состояние российской армии, ее быт и нравы — так появился «Поединок»; в 1912-м — вопрос о «преображающей» реальность любви — так появился «Гранатовый браслет»… Так что даже если все символистское Куприну было чуждо, то, по крайней мере, он им живо интересовался. Вообще, мне кажется, в этом едва ли не главная сила Куприна как писателя — в спо-собности услышать чуждую и чужую позицию, услышать разные голоса современности и не оспорить их, а попытаться понять.
АМ В новой России уже лет тридцать идет процесс воссоединения двух временно оторванных друг от друга ветвей российской культуры — Советской и Русского Зарубежья. Какое место Куприн занимает в этом процессе? Можно сказать, что его вернули полностью и навсегда?
ЕП Думаю, что да; думаю, что и сам процесс завершился — «возвращенная литература» уже много лет назад стала частью живого движения литературы, недаром молодые писатели и поэты свободно наследуют как советской, так и эмигрантской традиции. Кстати, в нулевые годы актуализировалась и традиция Куприна: экспрессивные, витальные, балансирующие на грани фола и массовой культуры рассказы Александра Снегирева, Сергея Шаргунова, Анны Козловой, Алисы Ганиевой явно восходят в том числе и к насыщенной, жизнеутверждающей беллетристике Куприна.
АМ Некоторые историки литературы считают, что от внимания Владимира Набокова не ускользнула «Жанета. Принцесса четырех улиц» Куприна. А как вам кажется, может иметь набоковская «Лолита» какое-то родство с этим произведением?
ЕП Я бы сказала, что купринская Жанета — это такое промежуточное звено между Лолитой — с одной стороны и Козеттой — с другой. В сущности, все три героини — разные лики любви; но если Куприн безусловно наследует «Отверженным», то Набоков, не любивший сентиментальности, опровергает и даже пародирует эту трогательную историю привязанности — и получается роман о запретной и извращенной любви.
АМ Авторская позиция и личностный подход — едва ли не главные составляющие публицистики Куприна. И дореволюционной, и эмигрантской. Насколько хорошо она сегодня изучена? Изучена ли та ее часть, которую можно назвать «лирической публицистикой», как, скажем, те же многосоставные «Листригоны», в которых главным героем оказывается сам автор? Или предельно жесткий литературный портрет Ленина, где Куприн — и портретист, и наблюдатель одной из самых страшных катастроф человечества? Вообще собрано ли воедино публицистическое наследие писателя?
ЕП Вот что касается публицистического наследия, мне кажется, оно еще ждет своего часа. Но с его «сборкой» есть некоторые трудности: во-первых, Куприн, как любой профессиональный журналист, писал очень много, и наряду с блестящими публицистическими материалами есть у него и проходные работы; а во-вторых, большинство его текстов тесно вписано в тогдашнюю современность и без обширного историко-литературного комментария сегодняшнему читателю может быть непонятно. Возможно, выход был бы в издании публицистического избранного Куприна с комментарием; кстати, частично его публицистические работы напечатаны в сборнике «Пестрая книга», составленном и отредактированном Татьяной Каймановой, многое сделавшей для возвращения малоизвестных текстов Куприна в литературное пространство.
АМ Как вам кажется, с чем связана необычайная подвижность жанровых границ публицистики Куприна, и особенно излюбленного им жанра очерка, часто несущего признаки рассказа, портрета, размышления?..
ЕП Прежде всего — с опытом журналистики и очеркистики: подобный опыт оставляет свои метки в чертах самых разных русских писателей и поэтов — от Николая Некрасова до Максима Горького и Александра Куприна. Собственно, в этом смещении жанровых границ и заключается магия Куприна — в тот момент, когда журналистская зарисовка или бульварная мелодрама превращается в притчу о настоящей любви, а производственный роман («Молох») — в философскую повесть, читатель чувствует себя причастным к этому преображению.
АМ Отношение советских властей к вернувшейся на родину дочери Куприна Ксении Александровне сегодня, наверное, можно назвать не просто несправедливым, но жестоким. С чем была связана такая реакция властей?
ЕП Я, к сожалению, недостаточно хорошо знаю биографию Ксении Куприной. Но в данном случае предположила бы, что-то, что она воспринимала как жестокость и несправедливость, было просто-напросто равнодушием. На Западе Ксения была успешной актрисой — с именем, статусом, связями
АМ Какую роль в освоении творчества Куприна сыграла книга Ксении Александровны «Куприн — мой отец»? Как к ней отнеслись в свое время историки литературы?
ЕП Книга Ксении Куприной — все же не литературоведческое исследование, а классическая мемуарная проза; эту нишу она и занимает — в ряду воспоминаний Анастасии Цветаевой, дилогии Ирины Одоевцевой и так далее. Самое ценное в этой книге — семейный быт Куприна, в том числе и эмигрантский; собственно отцовское творчество, как мне кажется, для самой Ксении Куприной в этой книге отступает на второй план.
АМ Могли бы вы назвать ваши самые любимые произведения Куприна?
ЕП Я не буду оригинальной: очень люблю «Яму» и «Поединок».
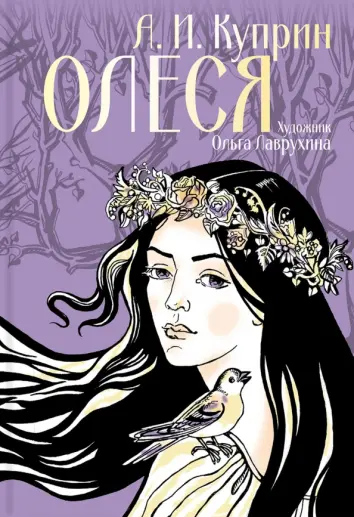
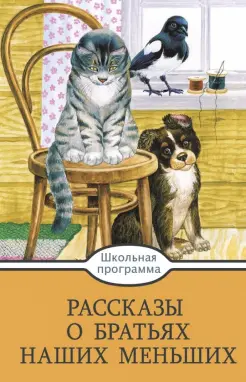
Похожие подборки
-
Позвонить -
СообщенияУ вас пока нет сообщений! -
Mой Лабиринт50 р. Дарим 50р. за регистрацию. Правила30 р. Баллы за ваши отзывы на книги5% Постоянная скидка уже на 2-й заказ -
0
ОтложеноЗдесь будут храниться ваши отложенные товары.Вы сможете собирать коллекции книг, а мы предупредим, когда отсутствующие товары снова появятся в наличии! -
0
КорзинаВаша корзина невероятно пуста.Лабиринт.Сейчас
Не знаете, что почитать?Здесь наша редакция собирает для вас лучшие книги и важные события.Главные книгиА тут читатели выбирают все самое любимое.
Не знаете, что почитать?
- Доставка и оплата
- Сертификаты
- Рейтинги
- Новинки
- Скидки
-
+7 499 920-95-25
Круглосуточная поддержкаВсе адреса и телефоны Лабиринта
-
Круглосуточная поддержкаВсе адреса и телефоны Лабиринта
-
Круглосуточная поддержкаВсе адреса и телефоны Лабиринта
- Контакты
- Поддержка
- Главное 2025
- Все книги
- Билингвы
- Книги для детей
- Комиксы, Манга, Артбуки
- Молодежная литература
-
Нехудожественная литература
- Назад в «Книги»
- Все книги в жанре «Нехудожественная литература»
- Все книги жанра
- Бизнес. Экономика
- Государство и право. Юриспруденция
- Домашние ремесла. Рукоделие
- Домоводство
- Естественные науки
- Информационные технологии
- История. Исторические науки
- Книги для родителей
- Коллекционирование
- Красота. Этикет
- Кулинария
- Культура. Искусство
- Медицина и здоровье
- Охота. Рыбалка. Собирательство
- Психология
- Публицистика
- Развлечения. Праздники
- Растениеводство
- Ремонт. Строительство. Интерьер
- Секс. Камасутра
- Технические науки
- Туризм. Путеводители. Транспорт
- Уход за животными
- Филологические науки
- Философские науки. Социология
- Фитнес. Спорт. Самооборона
- Эзотерика. Парапсихология
- Периодические издания
- Религия
-
Учебная, методическая литература и словари
- Назад в «Книги»
- Все книги в жанре «Учебная, методическая литература и словари»
- Все книги жанра
- Вспомогательные материалы для студентов
- Демонстрационные материалы
- Дополнительное образование для детей
- Дошкольное обучение
- Иностранные языки: грамматика и учебники
- Книги для школы
- Педагогика
- Подготовка в вуз
- Пособия для детей с ограниченными возможностями
- Словари и разговорники
- Художественная литература
- Скидки · Обзоры · Рецензии · Подборки читателей · Новинки · Рейтинг · Авторы · Изд-ва · Серии
- Все книги на иностранном языке
- Книги на английском языке
- Книги на других языках
- Книги на испанском языке
- Книги на итальянском языке
-
Книги на китайском языке
- Назад в «Иностранные»
- Все книги в жанре «Книги на китайском языке»
- Все книги жанра
- Курсы изучения китайского языка
-
Книги на немецком языке
- Назад в «Иностранные»
- Все книги в жанре «Книги на немецком языке»
- Все книги жанра
- Адаптированная литература на немецком языке
- Классическая литература на немецком языке
- Курсы изучения языка
- Литература на немецком языке для детей
- Нехудожественная литература на немецком языке
- Современная литература на немецком языке
-
Книги на французском языке
- Назад в «Иностранные»
- Все книги в жанре «Книги на французском языке»
- Все книги жанра
- Адаптированная литература на французском языке
- Графические романы на французском языке
- Классическая литература на французском языке
- Курсы изучения языка
- Литература на французском языке для детей
- Нехудожественная литература на французском языке
- Современная литература на французском языке
- Комиксы и манга на иностранных языках
- Все игрушки
-
Детское творчество
- Назад в «Игрушки»
- Все товары в разделе «Детское творчество»
- Все товары раздела
- Алмазные мозаики
- Витражная роспись
- Гравюры
- Другие виды творчества
- Конструирование из бумаги и другого материала
- Лепка
- Наборы для рукоделия
- Наклейки детские
- Панч-дыроколы фигурные
- Работаем с воском, гелем, мылом
- Работаем с гипсом
- Работаем с деревом
- Скрапбук
- Сопутствующие товары для детского творчества
- Творческие наборы для раскрашивания
- Фрески
-
Игры и Игрушки
- Назад в «Игрушки»
- Все товары в разделе «Игры и Игрушки»
- Все товары раздела
- Все для праздника
- Головоломки
- Детские сувениры
- Детские часы
- Другие виды игрушек
- Игрушка-антистресс
- Игрушки для самых маленьких
- Игры для активного отдыха
- Книжки-игрушки
- Конструкторы
- Куклы и аксессуары для кукол
- Кукольный театр
- Магнитные буквы, цифры, игры
- Машинки и Транспорт
- Музыкальные инструменты
- Мягкие игрушки
- Наборы для тематических игр
- Настольные игры
- Научные игры для детей
- Пазлы
- Роботы и трансформеры
- Ростомеры
- Сборные модели
- Слаймы
- Фигурки
- Электронные игры
- Скидки · Отзывы · Новинки · Рейтинг · Производители · Серии
- Все канцтовары
-
Аксессуары для книг
- Назад в «Канцтовары»
- Все товары в разделе «Аксессуары для книг»
- Все товары раздела
- Закладки для книг
- Обложки для книг
- Глобусы
-
Обложки для документов
- Назад в «Канцтовары»
- Все товары в разделе «Обложки для документов»
- Все товары раздела
- Другие обложки
- Конверты для путешествий
- Обложки для автодокументов
- Обложки для военных билетов
- Обложки для зачетных книжек
- Обложки для паспортов
- Обложки для проездных билетов
- Обложки для студенческих билетов
- Чехлы для карт, обложки для пропусков
- Офисная канцелярия
- Папки, скоросшиватели, разделители
-
Письменные принадлежности
- Назад в «Канцтовары»
- Все товары в разделе «Письменные принадлежности»
- Все товары раздела
- Карандаши черногрифельные
- Ручки
- Принадлежности для черчения
-
Рисование
- Назад в «Канцтовары»
- Все товары в разделе «Рисование»
- Все товары раздела
- Аксессуары для рисования
- Инструменты и материалы для каллиграфии
- Карандаши цветные
- Кисти
- Краски
- Линеры для творчества
- Мелки
- Наборы для рисования
- Палитры, стаканы-непроливайки
- Папки для чертежей и рисунков
- Пастель
- Тушь, перья
- Уголь художественный
- Фломастеры
- Холсты. Мольберты
- Сумки
-
Товары для школы
- Назад в «Канцтовары»
- Все товары в разделе «Товары для школы»
- Все товары раздела
- Веера, счетный материал, счетные палочки
- Другие виды школьной канцелярии
- Канцелярские наборы
- Косметички, кошельки
- Ластики
- Мешки для обуви
- Ножницы школьные
- Обложки для тетрадей и книг
- Папки для школьных тетрадей. Папки для труда
- Пеналы
- Пластилин
- Подставки для книг
- Рюкзаки, портфели
- Точилки
- Фартуки. Клеенки для уроков труда
- Школьная бумажно-беловая продукция
- Школьные наборы, подставки, органайзеры
- Для школы · Скидки · Отзывы · Новинки · Производители · Серии
- Все CD/DVD
-
Аудио
- Назад в «CD/DVD»
- Все товары в разделе «Аудио»
- Все товары раздела
- Аудиокниги
- Музыка
- Религия
- Видео
- Софт
- Скидки · Отзывы · Новинки · Рейтинг · Производители · Серии
- Все сувениры
- Календари
-
Сувенирная продукция
- Назад в «Сувениры»
- Все товары в разделе «Сувенирная продукция»
- Все товары раздела
- Альбомы, рамки для фотографий
- Детские сувениры
- Значки и медали
- Игрушки для животных
- Конверты для денег
- Магниты
- Новогодние сувениры
- Открытки
- Пакеты подарочные
- Подарочная упаковка
- Подарочные сертификаты
- Постеры и наклейки
- Праздничные аксессуары
- Таблички и статусы для рабочего стола
- Шкатулки
- Другое
- Скидки · Отзывы · Новинки · Рейтинг · Производители · Серии
- Весь клуб
- Журнал
-
Скидки и подарки
- Назад в «Клуб»
- Акции
- Бонус за рецензию
-
Только у нас
- Назад в «Клуб»
- Главные книги
- Подарочные сертификаты
- Эксклюзивы
- Предзаказы
-
Развлечения
- Назад в «Клуб»
- Литтесты
- Конкурсы
- Дома с детьми
-
Лабиринт — всем
- Назад в «Клуб»
- Партнерство
-
Приложения Лабиринта
- Назад в «Клуб»
- Apple App Store
- Google Play
- Huawei AppGallery

Мы используем файлы cookie и другие средства сохранения предпочтений и анализа действий посетителей сайта. Подробнее в пользовательском соглашении. Нажмите «Принять», если даете согласие на это.